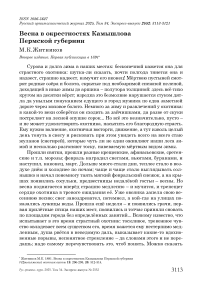Весна в окрестностях Камышлова Пермской губернии
Автор: М.К. Житников
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 2552 т.34, 2025 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140310664
IDR: 140310664
Текст статьи Весна в окрестностях Камышлова Пермской губернии
М.К.Житников
Второе издание. Первая публикация в 189 1*
Сурова и долга зима в наших местах: бесконечной кажется она для страстного охотника: шутка-ли сказать, почти полгода тянется она и надоест, страшно надоест, измучит его вконец! Мёртвою пустыней смотрят родные озёра и болота, скрытые под необозримой снежной пеленой, доходящей в иные зимы до аршина – полутора толщиной: здесь всё тихо кругом на десятки вёрст; изредка это безмолвие нарушается стуком дятла да унылым понуканием едущего в город мужика по едва заметной дороге через моховое болото. Немного за зиму и развлечений у охотника: в какой-то веки соберётся он сходить за зайчишками, да разве от скуки постреляет на лесной опушке сорок... Но всё это незначительно, пусто – и не может удовлетворить охотника, насытить его благородную страсть. Ему нужно волнение, охотничьи восторги, движение, а тут изволь целый день тонуть в снегу и рисковать при этом увидеть всего на всего стаю жуланов (снегирей), которые чуть ли не одни оживляют наши леса зимой и несколько разгоняют тоску, навеваемую мёртвым видом зимы.
Прошли святки, прошли разные крещенские, афанасьевские, сретенские и т.п. морозы; февраль наградил снегами, вьюгами, буранами, и наступил, наконец, март. Дольше много стали дни, теплее стало в воздухе днём и холоднее по ночам; чаще и чаще стало выглядывать солнышко и начал понемногу таять мягкий февральский снежок, а на крышах появились сосульки, предвестницы недалёкой гостьи – весны. Но весна подвигается вперёд страшно медленно – и мучится, и трепещет сердце охотника в тревоге ожидания её. Уже овсянка запела свою весеннюю песню; снег заноздревател, потемнел, а кой-где на улицах показались лужицы воды. Прошла ещё неделя – и появились грачи, первая прилётные птица наших мест, появились и тотчас приняли сновать по площадям города без определённых занятий... Всякому известно, что испытывает в это время страстный охотник: тоскливое, тревожное чувство овладевает всем существом его, время кажется ему нестерпимо медленным, душа рвётся в неведомую даль, выказывает какие-то вдохновенные порывы, непонятное стремление – да словами этого и не передашь; надо самому перечувствовать это, чтоб понять. Можно сказать только одно, что это именно чувство и лежит в основе ружейной охоты; оно делает те чудеса над охотником, которым так удивляются все неохот-ники, оно даёт силу, жизнь, смысл ружейной охоте и возводит её на степень страсти, но страсти благородной, доходящей иногда до чудовищных размеров, преимущественно в молодых охотниках. И вот оживает наш городской охотник при первых признаках весны; он погружается в лихорадочную деятельность: набивает патроны, сортирует дробь, несколько раз перемывает своё ружье, без всякой надобности осматривает его беспрестанно, идёт на берег реки Пышмы, на которой стоит Камышлов; но страшно медленно тянется время: ещё недвижимая стоит река в своих оковах, снега лежат ещё целёхоньки, куда ни кинешь взгляд – весна наступила только календарная, городская, не зависящая от погоды: кругом снег, а в городе почти уже все улицы свободны от него. Но вот заплавал в голубом небе рыжий коршун, парочка скворцов уже заняла соседний скворешник – значит, нет сомнения, идёт весна. Скворцы не ошибаются никогда относительно погоды: раз они на месте, значит дней через 5-6 вскроется Пышма.
Время вскрытия реки почти из году в год бывает одно и то же с незначительной разницей; за норму вскрытия можно принять вообще первые числа апреля, в частности 4, 5 и 6 числа. В очень поздние вёсны, как например в 1886 году, Пышма разливается никак не позже половины апреля, между 10 и 15 числами; в очень же ранние – в конце марта. В 1888 году была чрезвычайно ранняя весна, какой не помнят и старожилы: Пышма разлилась 23 марта – необыкновенно рано для наших мест; но, конечно, это случай единичный. В поздние вёсны, которые бывают по большей части холодными и сырыми, Пышма разливается весьма нешироко, даже иногда не выходит из берегов; в таком случае пролётная птица летит недружно, вяло, даже не дожидаясь окончательного разлива реки и бьётся до наступления настоящего тепла по лыв-кам, разливам озёр, рекам и т.п. Но в ранние и дружные вёсны разлив Пышмы громаден. И с какою удивительною быстротою наступает иногда здесь полная весна! Вчера вы проходили мимо любимых озёр – на них лежал посиневший рыхлый лёд, а кругом их – безграничное море снегов; ваши ноги вязли, проваливаясь в этих снегах и вы чувствовали под ними холодную воду, накопившуюся от таяния и на четверть, даже более покрывавшую землю, хотя эта вода и скрыта была снегом; сегодня вы узнаёте, что река вскрылась, идёте – и не верите глазам: где вчера были снега и лёд, тут всё покрыто мутной весенней водой и река шумно катит грязные воды вместе с массой льдин, которые громоздятся друг на друга в своём шумном беге, трещат, лопаются на тысячи кусков и снова мчатся дальше... Широка и величественна Пышма в половодье! Все окрестные луга, наволоки до самого бора затопляются водой; вода заходит иногда даже в бор, который в иных местах отстоит от берегов реки не ближе 600 шагов, так что в общем Пышма разливается по низким местам на версту и более*. Незначительная в летнее время река весной превращается таким образом в громадное озеро. Редкий год обходится без крушения мельниц в разлив, так, например, весной 1889 года река Пышма в районе 7 вёрст от Камышлова разрушила 2 плотины, промыв себе новые русла близ них.
Все почти лучшие озёра и озерца наши вёрст на 20 по течению реки Пышмы, составляющей приток Туры и впадающей в неё недалеко от впадения этой последней в Тобол, расположены вблизи берегов её, так что весной она соединяется с ними, что увеличивает грандиозность картины разлития реки. Поэтому вскрытие этих озёр вполне зависит от вскрытия Пышмы; поднялась вода в реке, вышла из берегов, залила озёра — и вот они сбросили свои оковы, и льды их той же рекой уносятся далее, к устьям. Как только тронется река, о чём возвещает глухой шум идущего льда, жители нашего небольшого городка высыпают на берег и любуются представившейся картиной. А картина эта действительно хороша: с рёвом мчится река, шумная, бурная, грозная; льдины с ужасающей быстротой сталкиваются, расходятся и несутся далее; верхушки затопленных кустов в приозёрных наволоках колеблются и дрожат под напором массы воды; по реке плывут брёвна, палки, копны соломы, прорубь, обсаженная сосенками и прочее; на берегу аханья, крики, шум восклицаний собравшейся толпы, а над разливом снуют скворцы, чайки, крачки; вдруг где-то вдали, прозвучало мелодичное «клю-лу-ру» и из-за бора выплыла станица лебедей и тихо полетела серединой разлива; за рекой, на разливе же, громыхнул выстрел — кто-то выстрелил из бат у+ и тотчас же из ближних затопленных кустов вырвалась пара кряковых уток... Да всей прелести этой картины и не передашь вполне.
Чтобы объяснить всю важность разлития Пышмы для охотника, достаточно сказать, что в наших местах пролёт неразрывно связан с ним и начинается не раньше, не позже его. Разлилась река — и появилась водоплавающая и болотная дичь; наоборот, если даже снег растает повсюду, а Пышма почему-то не вскрылась, вы напрасно будете искать дичь. Только в поздние вёсны птица, потерявшая терпение, не дожидается вскрытия реки и летит; но это пролёт очень слаб и вял: в такие годы Пышма не выходит из берегов. Исключение из вышесказанного составляют чайки, дрозды, пигалицы, лебеди, да и те прилетают лишь за 3-4 дня до разлития реки. Но удивительно, где скрывается птица до разлития: сегодня утром, положим, вы ходили на реку; лёд стоит неподвижно, хотя вода уже разошлась по лугу; но вот в полдень вы узнаёте, что река вскрылась, идёте на берег и видите, что над разливом пролетают гуси, лебеди, а в залитом наволоке уже сипло покрякивает красавец селезень! Уму непостижимо, где скрывается до того времени вся эта птица и как она поспевает именно к вскрытию реки. Правда, в иные годы случалось, например, что река ещё и не думала вскрываться, а уже на какой -то луже видели крякуш, но это, конечно, утки пролётные и их видят в самом незначительном количестве, между тем как в разлив их сразу оказывается очень много.
Прилёт располагается обыкновенно в следующем порядке: первые вестники весны, грачи Corvus frugilegus, появляются в двадцатых числах марта; за ними скворцы Sturnus vulgaris, прилетающие в последних числах марта; в это же время прилетает самый крупный хищник наших мест — орлан-белохвост Haliaeetus albicilla; в первых числах апреля — дрозды: серый [деряба] Turdus viscivorus, певчий T. philomelos, рябинник T. pilaris, — и пигалицы [чибисы] Vanellus vanellus. Дрозды появляются в небольшом количестве, пигалицы также — стайками от 10 до 20 штук. Спустя 2-3 дня после прилёта они разбиваются на пары и занимают свои луговые болота. Затем, по вскрытии реки, появляются местовые и пролётные утки разных пород. Первыми показываются со вскрытием реки кряковые утки Anas platyrhynchos; почти вместе с ними или дня на 3-4 позднее (редко ранее) гоголи Bucephala clangula; в половине апреля чирки половые [свистунки] Anas crecca, вскоре после них — чирки голубые [трескунки] Anas querquedula; между 12 и 17 апреля прилетают свиязи Anas penelope, с 15 по конец апреля все остальные породы. Вот перечень пролетающих у нас весной уток: общеизвестная кряква, шилохвость, или «острохвостая», по-местному, утка Anas acuta, серая утка Anas strepera, широконоска (местное название соксан) Anas clypeata, свиязь (местное название свись), чирков обе породы, а из нырков: гоголь, хохлатая чернеть Aythya fuligula и морянка Clangula hye-malis. Местовые же утки, собственно, только кряква, изредка серая, чаще шилохвость, соксан и чирки; нырки у нас вовсе не гнездуют, а пролетают далее к Тоболу. Местовой кряквы довольно много, а вместе с пролётной составляется изрядное количество. Замечательно то обстоятельство, что местовая кряква и большая часть пролётной прилетает к нам уже разделившись на пары: стай я не видывал, разве 2-3 раза во все мои весенние охоты, да и те по числу особей не превышали 10 штук. Шилохвость и серая пролетают в самом ограниченном количестве*; их как-то и незаметно в пролёт. Но никакой другой утиной породы не пролетает столько через наши места, как свиязи. Она катит в светлые, ясные дни сотенными стаями по течению реки беспрерывно, беспрестанно в течение нескольких дней и вместе с местной уткой останавливаются подолгу для отдыха у нас. Особенно обильна была ими весна 1889 года: просто поражался я тогда, со всех сторон слыша характерное шипение и свист проносившихся в недоступной вышине свиязей; тысячи их пролетали на северо-восток, и масса этой утки долго гостила на разливах Пышмы. Чирков бывает очень много, особенно половых. Они долго бьются стаями и только в начале мая разделяются на пары. Гоголей пролетает очень много; они остаются у нас дольше всех уток — по три недели и по месяцу; в половине мая ещё встречают холостых селезней. Они держатся всю весну как на разливах, так и по боровым болотам, или «лывкам» по-мест-ному. Вместе с шилохвостями, серыми и другими утками около 20 апреля появляется в большом числе на разливах морянка, отличающаяся крайней осторожностью и улетающая от нас на север почти в одно время с гоголем. Одновременно с утками оказываются и кулики: черныш Tringa ochropus, перевозчик Actitis hypoleucos и другие. Очень поздно, уже в мае, прилетают крупные куличьи породы: кулик-сорока Haema-topus ostralegus, авдошка [большой улит] Tringa nebularia и ещё некоторые; первые — в громадных стаях: удивительно то, что летом их видно очень мало и то не каждый год. Много также лутков Mergellus albellus, больших крохалей Mergus merganser и всякого года гагар.
Но главное обаяние весны в нашей местности — пролёт гусей. Ещё задолго, за неделю-полторы до вскрытия Пышмы отдельными стайками проносятся они на северо-восток на страшной высоте: но с разлитием её они летят беспрерывно, летят огромными вереницами уже сравнительно невысоко: саженей на 50-100 над землёй: лёт продолжается до половины и более апреля. Охотясь в этот период, беспрестанно слышишь гоготание несущихся в вышине гусей — и радостно трепещет сердце охотника при этих звуках и всё более и более наполняется душа его непонятным охотничьим чувством... Часть гусей, впрочем, весьма небольшая, останавливается отдохнуть на разливах реки близ Камышлова, прочие проносятся далее (местовых уже у нас вблизи города нет *) . Главную массу составляет серый гусь Anser anser , в меньшем уже количестве пашенный гусь Anser fabalis fabalis и белолобая казарка Anser albifrons , о прочих породах ничего достоверного сказать не могу; кажется, есть основание предполагать присутствие пролётного малого немка Branta leucopsis . Вся эта масса гусей, пролетая в небесах, кричит на разные голоса, пищит, гогочет, трубит, образуя прелестный для уха охотника концерт. Охота за гусями весной носит у нас вполне случайный характер: к сидящим на разливе гусям подкрасться очень трудно даже из-за кустов, поэтому удачнее стрельба их в лёт, особенно по вечерам, когда они пролетают над разливами и борами, но так как всё-таки пролётные гуси летят днём на вышине, недоступной для дробовика, их стреляют пулей влёт.
Для этого пригодны сибирские малопульные винтовки, весьма употребительные здесь в разного рода охотах: маленькая пулька довольно правильно бьёт гуся на 100-150 шагов, обязательно задевая какую-нибудь птицу, если целиться в передних гусей из летящей над головой вереницы; в сбитую вместе кучу гусей ещё легче попасть. Надо заметить, что серые и пашенные гуси летят вереницами, выстроившись в треугольники; мелкие же гуси, или, собственно, казарки чаще несутся, густо столпившись в беспорядочную кучу, почему в них легче и стрелять. Обыкновенно процент убиваемых весной гусей весьма незначителен вследствие их осторожности, а главное, вследствие их полёта. Но в хмурые, туманные дни встречи с ними бывают особенно удачны: гуси летят не выше 100 шагов над разливами, а над лесом ещё ниже; наоборот, в дни ясные гусь редко летит ниже150-200 шагов; тогда уже нужна отлично бьющая винтовка, чтобы выхватить из станицы красавца гуся. Нет ничего живописнее падения раненого гуся на землю, когда он, беспрестанно кувыркаясь и стараясь справиться, машет широкими крыльями в бесполезном усилии и всё-таки неудержимо быстро несётся к земле. Как мешком ударится он о землю и даже подскочит вверх от собственной упругости! Кто видел это падение, тот согласится, что нет картины более очаровательной для охотника.
Серый гусь летит вообще очень высоко сравнительно с другими породами гусей; передовые его стаи, появляющиеся в конце марта, проносятся в недоступной для ружья вышине, да даже и тогда, когда полая вода начнёт входить в естественные русла, он проносится очень высоко, так что довольно редко становится добычей охотника. Недалеко от Камышлова, вёрст за 17, на полях деревни Ожгиха каждую весну останавливаются для отдыха массы этого гуся вместе с другими породами их. Наши городские немвроды ежегодно делают туда экскурсии, преимущественно на Пасхе, так как все они народ должностной, занятой и располагают вполне своим временем только по праздникам; выпускаются массы пуль и дроби, но об убитых гусях что-то мало слышно, хотя некоторым счастливцам удаётся привезти иной раз дорогую добычу на удивление и зависть сограждан. Стрельба ведётся здесь главным образом на вечерних перелётах, когда гуси, похватавши кое-чего на разбухших жни-вьях, тянут по заре на разливы Пышмы и на лежащие около неё озёра; охотники стреляют их большею частью из засад, сделанных на берегу реки или озера. Впрочем, и здесь серый гусь с его осторожностью, доходящей до абсурда, мало претерпевает, а платятся жизнью за доверчивость большею частью пашенный и белолобый гуси.
Замечу здесь, что и промышленники, и простые крестьяне наши зовут гусем только серого, который узнаётся по своей величине; все прочие породы зовутся казарой, казарками.
Чем более весна вступает в свои права, тем значительнее становится пролёт гуся и наибольшей своей величины он достигает в то самое время, когда полая вода входит в Пышму и резко обозначаются берега озёр, близ неё находящихся, что обыкновенно бывает во второй половины апреля. В это время громаднейшие вереницы названных пород гусей неудержимо целые дни и ночи катят к северу по течению Пышмы. Чем менее становится полой воды, тем более прибывают гуси и тем более шансов добыть его, так как стаи чаще и чаще присаживаются на наши озёра для отдыха. В это время случается иногда в светлые ночи видеть пролетающих белых гусей Anser caerulescens, которые в наших местах не останавливаются даже и для отдыха и составляют редкость, тогда как около Казани, например, они в весенний и осенний пролёты подолгу живут на озёрах левого берега Волги (например, на озере «Солёная Воложка»). Около половины апреля пролёт достигает своего апогея: масса водоплавающей птицы кишмя кишит на Пышме и прилегающей к ней озёрах: стон стоит в воздухе от кряканья, свиста и писка.
Сколько в это время убивается водяной дичи, можно видеть из того, что пара уток стоит тогда на рынке 15-20 коп., тогда как летом та же пара стоит 35-40 коп. Надо заметить, что торговля дичью в запрещённое время у нас процветает открыто, как и сама охота весной, ибо никто никаких законов об охоте не принимает и дичь год от года заметно убавляется. Впрочем, на этот грустный факт не столько влияет весенняя охота, в сущности, трудная и сравнительно малодобычливая, сколько преждевременная летняя: начиная охотиться за утками задолго до Петрова дня с массою собак, часто даже и без ружей, местные охотники уничтожают к Петрову дню всю птицу до пёрышка, что называется, последствием чего бывает абсолютное отсутствие лётной утки ближе 7 вёрст от Камышлова летом.
Истребление дичи идёт у нас с ужасающей быстротой за последние годы, прогрессивно увеличиваясь. Неблагоприятная погода ныне весной и истребление молодой птицы дали в результате то, что около Камышлова на пространстве вёрст 10 кряква почти исчезла, если не считать те жалкие 2-3 стадочка этой породы, которые всю осень бились по озёрам деревни Никольская (14 вёрст от Камышлова).
В ряду крупной водоплавающей дичи не последнее место в промышленном отношении занимает у нас и лебедь, за которым здесь гоняются не менее страстно, чем за гусями. Этому способствует и появление лебедя ещё тогда, когда никакой другой дичи нет и в помине. Едва образуются первые закраины у берегов, первые полыньи, как на них кое-где уже появляются лебеди – всегда парами. Когда настаёт водополье, лебеди видны уже везде по разливам, однако они плавают всегда по середине разливов, не подпуская охотника; открытая же пологость берегов, возле которых они изредка держатся, служит им в этом случае прочной гарантией от выстрелов промышленника.
Гораздо чаще удаётся последним овладеть лебедем как-нибудь на перелёте между озёрами, под вечер, когда лебеди, соединившись по несколько штук, очень низко пролетают с озера на озеро. Но и в этом случае процент убиваемых лебедей крайне невелик даже в сравнении с количеством убиваемых гусей. Для стрельбы тоже употребляется винтовка. Пролетает обыкновенно только лебедь-кликун Cygnus cygnus; других пород лебедей я не замечал.
Представитель благородной болотной дичи — бекас Gallinago galli-nago — появляется у нас в половине апреля или немногим ранее. Всю весну токует он в наших обширных моховых болотах, блеет в воздухе, описывая бесконечные круги и спирали в небесах; много у нас этой отличной дичи и летом, и весной — но некому охотиться за ней, так как ни у кого из городских охотников нет для этой охоты порядочных собак, почему только очень немногие стреляют бекасов и то только случайно. Дупель Gallinago media прилетает в крайне ограниченном количестве — вообще он не жилец у нас; вальдшнепы Scolopax rusticola также малочисленны, а о тяге — увы — мы имеем весьма смутное понятие. В числе прилётной птицы можно назвать ещё горлинок Streptopelia turtur , вяхирей Columba palumbus , журавлей Grus grus , но особой охоты за ними не существует; они убиваются обыкновенно случайно на охоте за водоплавающей дичью — поэтому отдельно я говорить о них не буду.
Надо заметить, что у нас не существует охоты на круговую утку (кликушу), хотя этот способ мог бы быть с успехом применён; охота производится преимущественно с подхода и из шалашей, построенных на берегах озёр специально для вечерних перелётов.
В начале мая прилетает дупель, перепел Coturnix coturnix и коростель Crex crex со своим родичем — погонышем Porzana porzana. На чистых плёсах больших озёр громадными стаями появляется лысуха Fuli-ca atra, или «жандарм» по-местному (это название произошло, вероятно, от белой бляхи на лбу этой водяной курицы). Количество водяной птицы в это время значительно уменьшается: гусь уже давно прошёл к северу, лебедь также, даже ещё раньше; некоторые утки также улетели далее на север и к Тоболу (на северо-восток), а местовые, как например кряквы, уже давно сели на яйца; только чирки ещё бесчисленными стадами носятся по боровым озёрам и заливам. Пролётные утки покидают наши места постепенно, не сразу; первыми улетают чернети, погостив на наших озёрах около недели, а в тёплую весну и более, затем морянки, шилохвости, крохали, дольше всех держатся свиязи и гоголи; последние держатся иногда до конца мая, холостых же селезней нередко можно встретить в начале июня и даже летом, если весной они лишились своих подруг в наших местах. Итак, в начале мая большая часть местовой птицы садится на гнёзда, пролётной остаётся также немного, и охота делается со дня на день скуднее. В половине мая охотник вешает ружье на стену – пролёт кончился, а вместе с ним и весенняя охота до будущего года. В общем весенний пролёт птицы в нашем крае бывает необыкновенно обилен, так что оставляет много приятных воспоминаний в душе страстных охотников и любителей природы.
ю ^
* Бутурлин С.А. 1910. М.К. Житников. Некролог // Орнитол. вестн . 3: 160-161.
Рус. орнитол. журн . 2025. Том 34. Экспресс-выпуск № 2552