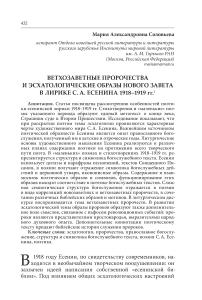Ветхозаветные пророчества и эсхатологические образы Нового Завета в лирике С. А. Есенина 1918-1919 гг
Автор: Соловьева Мария Александровн
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.12, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей поэтики есенинской лирики 1918-1919 гг. Стихотворения и «маленькие» поэмы указанного периода образуют единый метатекст о конце века, Страшном суде и Втором Пришествии. Исследование показывает, что при раскрытии поэтом темы эсхатологии проявляются характерные черты художественного мира С. А. Есенина. Важнейшим источником поэтической образности Есенина является опыт православного богослужения, полученный им в детские и отроческие годы. Литургические основы художественного мышления Есенина реализуются в различных планах содержания поэтики на протяжении всего творческого пути поэта. В «маленьких» поэмах и стихотворениях 1918-1919 гг. репрезентируется структура и символика богослужебного текста. Есенин использует цитаты и парафразы песнопений, текстов Священного Писания, в поэзии получают отражение символика богослужебных действий и церковной утвари, иконописные образы. Содержание и взаимосвязь поэтических образов и символов, функционирование этих образов находят соответствие в поэтике богослужебных текстов. Сложная семиотическая структура богослужения отражается в поэзии в виде корреляций новозаветных и ветхозаветных пророчеств, в сочетании различных библейских образов и мотивов. В литургическом дискурсе воспроизводится тема ветхозаветных пророчеств. В развитии эсхатологической темы образы пророков создают также дополнительное поле смыслов, связанное с пафосом революционных событий: пророки являются представителями простонародья, выразителями народного духовного опыта. Дополнительные коннотации поэтическому тексту придают библейские истории служения пророков.
Эсхатология, пророчества, православное богослужение, структура и символика богослужебного текста, поэзия с. а. есенина, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14748908
IDR: 14748908
Текст научной статьи Ветхозаветные пророчества и эсхатологические образы Нового Завета в лирике С. А. Есенина 1918-1919 гг
В 1918 году Есенин, по свидетельству современников, находится в необычайном творческом воодушевлении: он захвачен идеей написания собственной «есенинской библии». Под влиянием общих эсхатологических настроений времени Есенин создает свой поэтический цикл, в котором «стирается грань между реально историческим и библейским временем, между земным и “иным” мирами» [17, 18]. В критике и литературоведческих исследованиях разных лет цикл получал различные именования: «необиблейский», «богоборческий», «революционный». Главным источником есенинского творчества в этот период становится Библия, «в растрепанном и измученном виде лежавшая на столе» [22, 220]. Библия входит в художественную ткань поэзии Есенина в виде цитат, названий, сюжетов и мотивов, репрезентируется в синтаксическом строе и ритмике стиха.
Тема эсхатологии, конца времен и наступления Третьего Завета — одна из главных тем, которая получает свое осмысление не только в литературе, но и в искусстве и богословии начала XX века. Есенин по-своему воспринимает и усваивает в своем творчестве все многообразие представлений, понятий, концепций Серебряного века, что позволяет современным исследователям выделять различные коннотации его художественных образов. Однако та ключевая основа, которая придает целостность не только поэзии 1918–1919 гг., но и всему творчеству и позволяет рассматривать есенинскую поэтику как раннюю, так и позднюю, как единое смысловое поле, лежит в православной духовной традиции.
Как отмечалось многими литературоведами, образы и язык богослужения являются для Есенина важнейшим источником поэтической образности, определяющим его индивидуальный авторский стиль [2, 80–106], [16, 212], [20, 34–40]. Участие в богослужениях — основа духовной жизни верующего. Именно через богослужение верующие постигают Священное Писание, Псалтирь, Предание и догматику православия. Язык богослужения был родным для Есенина с детских лет, кроме того, он продолжает постигать его в отроческие годы на уроках в земской школе в Константиново, а затем во второклассной учительской школе в Спас-Клепи-ках. Основы художественного сознания поэта, связанные с опытом церковной жизни, проявляются в различных планах содержания поэтики и по-разному реализуются на протяжении его творческого пути:
-
1. В отображении окружающего мира, мира природы как мира Божьего, в котором творится литургия («Галочья стая на крыше / служит вечерню звезде»2, «Вечер синею свечкой звезду / Над дорогой моей засветил (I, 125), «У лесного аналоя / Воробей псалтырь читает» (I, 55), «На дворе обедню стройную / Запевают петухи» (I, 46—47).
-
2. В нераздельности в поэтике Есенина «земного» и «небесного». Здесь можно применить термин «иконичность» [12, 180–205] в том значении, которое придает ему В. В. Лепа-хин. В поэзии Есенина мы видим такую взаимосвязь земного и небесного, которая делает возможным взаимопроникновение и даже взаимозаменяемость в пределах одного произведения «небесных» и «земных» образов. Эта особенность сказывается, например, в изображении поэтов в образе святых, разгуливающих по небесам («О Русь, взмахни крылами…»), и наоборот нисхождении святых на землю («Микола»).
-
3. В «необиблейский» период творчества язык богослужения формирует способ поэтического высказывания Есенина. Литургические основы поэтики обуславливают взаимосвязь тем и мотивов, поэтику названий произведений, включение в них цитат из песнопений из Священного Писания, образов библейских персонажей и иконописных образов. В «маленьких» поэмах и стихотворениях 1918– 1919 гг. находит отражение структура, лингво-семантические особенности, знаково-символическая система текстов богослужения.
-
4. Диапазон духовных переживаний лирического героя от глубокого покаяния и самоотречения до радостного восхваления Творца передает духовное содержание православного богослужения, его духовные векторы.
-
5. Категория «пасхальности», сопряженная с духовным опытом православного богослужения, может быть применима ко всему творчеству Есенина, как устремленность к «Воскресению», «Небесному Иерусалиму» (о пасхально-сти в русской литературе см. [4, 5, 6, 7, 8, 19]).
-
6. Литургические основы поэтики Есенина проявляются и в онтологичности слова как такового. Поэт посвящает это-
- му аспекту словесного творчества статью «Ключи Марии». Феномен, охарактеризованный поэтом как «струящийся образ», понятие «двуипостасный образ» в поэзии Есенина неоднократно получал различные интерпретации литературоведов [11, 227–242].
Анализ есенинских «маленьких» поэм и стихотворений 1918–1919 гг., в частности «маленькой» поэмы «Сельский часослов», показывает, что в воплощении темы Страшного суда и грядущего Пришествия находит отражение структура и символика православного богослужения. Цитаты и парафразы из Священного Писания и гимнографии оказываются композиционно обусловленными в такой структуре.
Показательным примером того, как Есенин конструирует свою «библию», служит фрагмент черновика «Сельского часослова»
После 34 строки :
Слава тебе [показавшему] показавший свет
[Аллилуйя]
[Христос рождается]
[смертью [смерть] на смерть]
[поправ]
[наступив].
[Адову преодолел еси]
[Силу]
Слава смерти твоей
[новый]
Аллилуйя. (II, 305)
Здесь мы видим возглас священника на утрени: «Слава тебе показавшему нам свет!»3, незаконченную строку из рождественского песнопения «Христос рождается, (славите)!»4, фрагмент тропаря и кондака Пасхи5, причем все эти цитаты перемежаются возгласом «Аллилуйя».
Восклицания молитвенного «радования», воззвания к Богу в есенинских поэмах буквально воспроизводят строки богослужебных песнопений, являются неточными цитатами из них, воссоздают молитвенные формулы, образы пес- нопений. Причем, что важно заметить, часто они открывают отдельные строфы, четверостишия, части произведений.
Так, например, четвертая часть маленькой поэмы «Октоих» начинается с восклицания:
«Осанна в вышних!» (II, 41—45). Это песнопение поется хором во время Пресуществления Святых Даров на литургии верных и в песнопениях Недели Ваий6. Остальные части поэмы также начинаются с молитвенных возгласов и восклицаний:
О дево
Мария! –
Поют небеса <...> (II, 42);
О Боже, Боже,
Ты ль
Качаешь землю в снах? (II, 43) О родина, счастливый И неисходный час!(II, 41)
В строках этой поэмы мы слышим и мотив праздничного песнопения:
Святись преполовеньем
И рождеством святись. (II, 41)
«Святись» — это восклицание-призыв заключает в себе образ нетварного фаворского света, света святости, его можно встретить в различных жанрах гимнографии. Источником этих строк у Есенина, вероятно, является одно из самых радостных и торжественных пасхальных песнопений, которое поется в течение всего периода Пасхи и начинается словами: «Святися, Новый Иерусалиме!»7
Неточная цитата из песнопения начинает маленькую поэму «Октоих» и в виде эпиграфа: «Гласом моим Пожру тя, Господи». Есенин указывает и источник цитаты подписью «Ц. О.» — церковный Октоих (II, 314). Ирмос воскресного канона утрени, который перефразирует в данном случае поэт, звучит так: «Пожру Ти со гласом хваления Господи, Церковь вопиет Ти, от бесовския крове очищшися, ради милости от ребр Твоих истекшею Кровию»8. В этом ирмосе 4-го гласа, который призван прославить и раскрыть значение события Воскресения, получает актуализацию тема Крестных страданий Христа и связанная с ней тема Евхаристии. Евангельские события Страстей Христовых и Тайной Вечери, которые наиболее полно раскрываются в богослужении в самый духовно напряженный период года — Страстную Седмицу — и представляют собой главные события нашего Спасения, являются базовыми для православного сознания, для формирования его духовных векторов. И именно они становятся лейтмотивами всей «необиблейской» лирики Есенина и проявляются на всех уровнях текста: в мотивах и образах, сюжетах поэм и стихотворений. Тема Страстей находит отражение в сюжете «маленьких» поэм «Товарищ», «Певущий зов», «Сельский часослов», в сочетании с темой Евхаристии — в маленькой поэме «Ус».
В «Инонии» звучит восклицание:
Радуйся, Сионе, Проливай свой свет! (II, 68)
Образ торжествующего и радостного града Сиона запечатлен в древнейшей воскресной стихире на «Господи воз-звах»: «Радуйся, Сионе Святый, мати церквей, Божие жилище: ты бо приял еси первый оставление грехов Воскресением»9, в стихире на стиховне в Неделю Ваий: «Радуйся и веселися граде Сионе, красуйся и радуйся Церкве Божия!»10 Тема Пасхи и Вербного Воскресения появляется в следующих строках «Инонии»: «Новый в небосклоне / Вызрел Назарет. / Новый на кобыле / Едет к миру Спас» (II, 68).
В маленькой поэме «Певущий зов»: О Родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее <...>
Хвалите Бога! (II, 26)
Здесь, вероятно, эксплицируется тема хвалитных псалмов (Пс. 148, 149, 150) и хвалитных стихир, исполняемых на всенощном бдении. На утрени перед каноном мы слышим:
«Всякое дыхание да хвалит Господа!», «Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних!»11
Молитвенные формулы песнопений содержатся и в первых строках частей поэмы «Пришествие».
Лейтмотив сакрального песнопения, которое воздают Богу земля и небеса, буквально пронизывает поэтику «маленьких» поэм («поет тишина» (II, 38), «шишки слов» «поют о днях иных земель и вод» (II, 41–45), «холмы поют о чуде» (II, 51), «капает песня с гор» (II, 68) и подчеркивает песенный характер молитвенных восклицаний.
Таким образом, в поэтике есенинского «необиблейского» цикла воспроизводится композиционная и ритмико-мелодическая структура православных богослужений. Ритмический строй богослужения формирует, с одной стороны, сам принцип исполнения песнопений — принцип респонсорно-го и антифонного пения, который берет начало в ветхозаветном богослужении. В Ветхом Завете он заключался в таком способе пения псалмов, когда один из участвующих в богослужении исполнял «припев», а остальные стихи к нему, или же хоры исполняли песнопения попеременно. Эта традиция перешла в богослужение новозаветной Церкви и определила способ построения и исполнения большей части жанров православной гимнографии [1].
С другой стороны, ритмико-мелодическая и композиционная структура богослужения формируется чинопоследо-ванием, включающем в себя возгласы диакона или священника, пение хора, чтение Псалтири чтецом, чтения Апостола или Евангелия и исполнение молитв всеми молящимися.
Такое многоголосие и многообразие ритмико-мелодического рисунка богослужения выражается в поэзии Есенина в чередовании строф различного размера и «песенных» восклицаний, при этом форма стиха обусловлена содержанием. Особую значимость приобретает для Есенина графический рисунок произведения. Рифмованные строфы сменяются группами стихов, ритмико-мелодический строй которых подобен псалмодическому. В этих строках часто отражается тема евангельских событий или пророчеств («Новый Наза- рет / Перед вами. / Уже славят пастыри / Его утро. / Свет за горами...» (II, 26–27).
О характере структуры «есенинской библии» говорит и то, что отдельные части «маленьких» поэм у Есенина могут «исполняться» как отдельные произведения, соединяться в том или ином порядке. Так, в различные сборники отдельные части маленькой поэмы «Иорданская голубица» включались как самостоятельные произведения [18, 336].
«Необиблейская» лирика Есенина воспроизводит и лексико-синтаксические особенности библейской, в частности ветхозаветной, поэзии12. Поэт не только усваивает различные категории богослужебного текста, в его образах получает отражение символика богослужебных действий и церковной утвари, иконописные образы. Так, в маленькой поэме «Преображение» поэтическое воплощение получает главный момент Божественной литургии — пресуществление Святых Даров. По свидетельствам современников, поэт был в восторге от этого своего образа: «И вдруг громко, сверкая глазами: — Ты понимаешь: Господи, отелись ! Да нет, ты пойми хорошенько: го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял?.. „ Пою и взываю: Господи — отелись !“»13. «Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», — этот возглас священника — кульминация литургии — часть евхаристической молитвы, в которой возносится благодарение Богу за спасительную жертву Христа, и которая возглашается перед пресуществлением вина и хлеба в Тело и Кровь Христовы. В есенинском поэтическом образе Причастие выступает в виде тельца, как на иконе Святой Троицы Феофана Грека, которая находится в церкви Спаса Преображения в Новгороде Великом. Заметим, что Есенин пишет о новгородской иконописи в «Ключах Марии», что говорит об особом интересе поэта к этим древним образам и их истории. Следующая строка «Звездами спеленай те-лицу-Русь» эксплицирует, с одной стороны, практические действия при пресуществлении, а с другой — символическое значение предметов церковной утвари. Как известно, Агнец кладется под звездицу, которая символизирует одновременно Вифлеемскую звезду и Крест, на дискос, который символизирует, с одной стороны, Вифлеемские ясли, а с другой —
Гроб Господень. Сверху звездица покрывается покровцами и воздухом, которые символизируют пелены Христа и плащаницу.
В евхаристической молитве, которую воспроизводит в своем поэтическом образе Есенин, сочетаются тексты Апокалипсиса, пророчества Исайи и Евангелия, при этом в тран-сцендентальности Таинства совмещаются прошлое, настоящее и будущее, как уже совершившееся в вечности. Как пишет митрополит Илларион (Алфеев), «в сознании автора евхаристической молитвы совместились три события: видение ветхозаветным пророком Господа во славе, видение народом израильским Иисуса, грядущего на “вольную страсть”, и апокалиптическое видение апостола, прозревающего эсхатологическую реальность вечного Царства Божия. Прошлое, настоящее и будущее совмещены в едином благодарении.
Об этом совмещении временных перспектив свидетельствуют и слова: “Царство Твое даровал еси будущее”. Объектом благодарности является вся история человечества от сотворения мира вплоть до эсхатологического Царства Божия, которое воспринимается не как ожидаемое, а как уже дарованное» [9, 341].
Для богослужебного текста характерна сложная семиотическая структура, в которой сочетаются различные знаки и символы, темы Рождества и Воскресения, Преображения и Пришествия, ветхозаветных пророчеств о Страшном суде и Царстве Божием, новозаветных событий и пророчеств, содержится возможность одновременного символического прочтения одного образа, текста, действия в богослужении в различных планах. Как пишет прот. Александр Шмеман, «Литургия Церкви состоит из молитв, чтения, обрядов, пения. Другими словами, в ней существует порядок, структура, в которой различные элементы связаны друг с другом, и только в этом соотношении раскрывается их истинное значение» [21].
Такая гиперсимволичность формирует и поэтику Есенина, определяет ее смысловое поле и возможность его интерпретации. В пределах даже одной строфы соединяются мотивы пасхальных, рождественских, крещенских песнопений:
«Радуйтесь! / Земля предстала / Новой купели! <...> / И змея потеряла / Жало» (II, 26). Как признавался поэт: «Я этот “символизм” еще в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. <...> Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой “символизм”. Он у меня своим горбом нажит»14.
Так же как и в богослужебном тексте, в раскрытии эсхатологической темы у Есенина корреспондируются ветхозаветные и новозаветные образы и мотивы. При этом ключевыми для выражения мотива ветхозаветных пророчеств являются фигуры пророков Иеремии, Иезекииля, Исайи, Амоса и Ездры, которые мы видим в разном контексте в есенинских произведениях и их черновиках.
При рассмотрении места и значения темы ветхозаветных пророчеств в общем метатексте есенинского «необиблейско-го» цикла важно отметить рецепцию ветхозаветного текста в контексте православного богослужения. Ветхий Завет в новозаветном прочтении — «тень будущих благ». В ежегодном богослужебном круге книги Ветхого Завета имеют особое значение для богослужений Великого поста. Как пишет архимандрит Иов (Геча), «Новый Завет является также образом эсхатона, открывающегося, но еще не осуществленного Царствия Божия, восполнение которого остается в грядущем и участвовать в котором мы призваны после Второго пришествия Христа»; «Экзегеза текстов Писания, проделанная богослужениями Страстной седмицы, учит нас, что касательно православного учения об эсхатологии точнее было бы говорить об “эсхатологии открывающейся”, о Царствии, которое “уже здесь” и “еще нет”, чем о футуристической эсхатологии или о свершившейся эсхатологии» [10].
Дополнительное смысловое поле — «струящиеся образы» — поэт создает с помощью аллюзий, цитат из древнерусских произведений «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника», народных поверий и фольклора. Библейские пророчества помещаются на другую национально-культурную почву, в другую систему координат и приобретают национальное звучание. В концептуальном пространстве есенинского текста народ избранный,
«остановившие на частоколе Луну и Солнце» — русский крестьянский народ, Русь — Христос и Богоматерь как «вместилище невместимого», пророки — поэты. Кроме того, введение диахронического диалога, исторических коннотаций придает поэтике Есенина библейское звучание в аспекте вечности, вневременности.
В есенинском поэтическом цикле мы встречаем имена только двух пророков: Иеремии, которому посвящается «маленькая» поэма «Инония», и Исайи в стихотворении «О пашни, пашни, пашни...». Имена других пророков или образуют качественное определение («иезекиильский глас ветров» (IV, 178)); или присутствуют в тексте имплицитно как личность автора используемой цитаты и ее аллюзии (фраза из книги пророка Амоса, цитируемая в «Ключах Марии», в «Сельском часослове» — в виде аллюзии, непрямая цитата этого же пророка в стихотворении «Покраснела рябина...»); или содержатся в черновиках и выявляют векторы развития и смысловое поле поэтического мышления Есенина.
В общем метатексте «есенинской библии» мотивы пророчеств о грядущем Страшном суде и Пришествии имеют два смысловых аспекта.
Во-первых, это утверждение новой религии духа, утверждение «Благодати» в противовес «Закону», и здесь отчасти выразились тот бунт против догм, стремление к обновлению христианства как в светской, так и в духовной среде, которые были свойственны этому времени.
Во-вторых, это социальный аспект: декларация духовных преимуществ простонародья, людей, «нищих духом» и «простых сердцем», утверждение Истины как привилегии народа. Представление крестьянского образа жизни, быта, мировоззрения, как обладающих высшим духовным смыслом в бытии, определяет поэтическое кредо Есенина. Систему взглядов поэта в анализируемый период творчества манифестирует трактат «Ключи Марии».
Один из стержневых концептов в раскрытии темы ветхозаветных пророчеств у Есенина — «пророк-пастух». Этот концепт привносит в поэтику «есенинской библии» широкое поле смыслов, включающее и художественный мир библей- ских историй, и их иконописное воплощение. В Священном Писании «пророк-пастух» — один из ключевых образов, объединяющий ряд ветхозаветных и новозаветных библейских персонажей и восходящий к древнему образу Иисуса как Пастыря овец. Ветхозаветные персонажи в символическом новозаветном прочтении являются прообразами Христа: в претерпеваемых ими страданиях за Истину от лица народа, в духовном служении — они призваны Богом проповедовать Слово Божие, они открывают волю Божию людям.
Лирический герой Есенина сближается с ветхозаветными пророками-пастухами в своем духовном служении — в возвещении Нового Завета. Еще раз подчеркнем, что Есенин выбирает из длинного ряда ветхозаветных пророков тех, чьи откровения раскрывают события конца времен и в старом ветхозаветном мире, регламентируемом комплексом законов Моисея, говорят о новой вере — вере «в духе и истине». Кроме того, личности этих пророков по-разному связаны с концептом «пророка-пастуха».
В стихотворении «О, пашни, пашни, пашни...» лирический герой говорит: «И пас со мной Исайя / Моих златых коров» (I, 121), — тем самым подчеркивая свою общность с пророком в выполнении духовной миссии. Исайю называют ветхозаветным апостолом, его пророчества наиболее точно и подробно свидетельствуют об евангельских событиях, его пророчества о Всемирном Царстве Мессии имеют много общих мест с Откровением Иоанна Богослова. Кроме того, социальный аспект этому образу придает общественная духовная миссия пророка. Исайя сплотил вокруг себя молодежь, которая, восприняв его идеалы, положила начало новому религиозному движению в Иерусалиме, известному под названием «Бедняки Господни» [14, 84].
Образы пророков Исайи, Амоса и Иеремии создают в теме ветхозаветных пророчеств дополнительное поле смыслов, связанное с пафосом революционных событий, с христианским этическим кодексом революции. В «Ключах Марии» Есенин приводит неточную цитату из книги Амоса: «“Я не царь и не царский сын, — я пастух, а говорить меня научили звезды”, — пишет пророк Амос» (V, 189). В Библии фраза звучит так: «Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы» (Ам. 7:14). В «Сельском часослове» она получает такую вариацию:
Пастухи пустыни –
Что мы знаем?..
Только ведь приходское училище
Я кончил,
Только знаю Библию да сказки,
Только знаю, что поет овес при ветре... ( IV, 175)
В обличениях пророка Амоса говорится о том, что прегрешения израильского народа заключаются в притеснении бедных, в наличии социального неравенства и несправедливости. У пророка Амоса слова «нищий» и «праведник» являются синонимами (Ам. 2:6). «Здесь впервые появляются два библейских понятия: “бедные” и “кроткие”. <…> Впоследствии в псалмах очень часто слово “бедный” будет синонимом “праведного”» [15, 325–326].
Грозных обличительных речей в адрес тех, кто пирует и роскошествует, полна и книга пророка Иеремии. Так же как и Амос, он буквально уравнивает бедность и праведность.
Эпиграф «пророку Иеремии» маленькой поэмы «Инония», рассмотренный в дискурсе православного мышления, имеет коннотацию «надписания». Как известно, надписания у псалмов «псалом Давиду» говорят об их авторстве. Эпиграф поэмы Есенина в таком случае получает семантику «соавторства». Как пишет В. С. Чернявский, «“пророк Есенин Сергей” с самой смелой органичностью переходил в его личное “я”» [22, 220].
Иеремия, как пишет о. А. Мень, — это первый пророк, произнесший слова «Новый Завет» более чем за пять веков до появления Спасителя. Это пророк, который отвергал то, что было святынями для иудеев, и утверждал «религию сердца»: «Пророк Иеремия говорит о конце Синайского этапа Завета и замене его Новым Заветом, который будет начертан в человеческих сердцах. Пророк отрицает абсолютное значение Храма и Ковчега и предсказывает их уничтожение. Он — предтеча новозаветного богопочитания “в духе и истине”
(Ин 4:23) <…>» [15, 375–376]. Пророчества Иеремии сделали его врагом израильского народа, его считали богохульником.
Безусловно, главная тема «Инонии» — бунт против основ вероучения Церкви, и в историях Иеремии и других пророков, возможно, автор находит библейское основание своему бунту.
Несмотря на соответствие структуре и символике богослужебного текста, есенинская поэтика «необиблейского цикла» обнаруживает постоянные духовные противоречия. Тогда как тема Причастия постоянно эксплицируется в сюжетах и образах поэзии, присутствует имплицитно в парафразах песнопений, в «Инонии» лирический герой заявляет: «тело, Христово тело / Выплевываю изо рта» (II, 61). В поэмах воспроизводятся цитаты и парафразы из пасхальных песнопений — в «Товарище» звучит: «Больше нет Воскресенья». В дневнике А. А. Блока есть такая запись: Есенин говорит, что выплевывает Причастие «не из кощунства, а не хочу смирения, сораспятия» [13, 81]. При этом всю есенинскую поэтику пронизывает мотив жертвенного служения и приятия крестных мук. О сораспятии со Христом, хоть и в мистическом ключе, он говорит и в «Ключах Марии».
В этой парадоксальной противоречивости выразились духовные противоречия эпохи — эпохи нового религиозного сознания. Учения и философские построения религиозных философов и богословов духовного ренессанса характеризовали как стремление к обновлению христианства, отвержение Предания и догм Православия, так и утверждение Православия и христианства в качестве единственного оплота государства и социума.
Есенин как крестьянин глубоко укоренен в историческом Православии, в церковности как таковой. Воспринятые им идеи оказываются чужды его менталитету, вступают в противоречие с усвоенной им с детства православной картиной мира.
С другой стороны, в этом восстании против «Китежа», в заявлении «тело, Христово тело / Выплевываю из рта» (II, 61) выражается свойственная Есенину двойственность, которая проявлялась и в стихах, и в автобиографических вы- сказываниях, и, по свидетельствам мемуаристов, в психологическом типе его личности. Например, в ранней поэзии: «Я одну мечту, скрывая, нежу, / Что я сердцем чист. / Но и я кого-нибудь зарежу / Под осенний свист» (I, 69), в поздней: «Ты прости, что я в Бога не верую — / Я молюсь ему по ночам» (IV, 280). Апофеоз этой двойственности — в «Черном человеке». Сам поэт признавался: «В детстве у меня очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом и в творчестве моем были такие полосы»15. По воспоминаниям А. К. Воронского: «Образ Есенина двоится. Два человека вели в нем тяжкую, глухую и постоянную тяжбу» [3, 102].
Тогда как Иеремия пророчествует о наказании Иерусалима за грехи, лирический герой «Инонии» сам является исполнителем наказания. И если в начале произведения он «пророк Есенин Сергей», который говорит «по библии», то затем он преображается в ангела Апокалипсиса:
Грозовой расплескались вьюгою От плечей моих восемь крыл. (II, 62)
Здесь мы видим характерное для православного богослужения совмещение символических текстов Ветхого и Нового Завета: у Есенина — это пророчества Иеремии и пророчества св. апостола Иоанна Богослова. Тот образ, который возмущал читателей-современников — «до Египта раскорячу ноги» (II, 64), вероятно, имеет источником образ Ангела Апокалипсиса, который «поставил правую ногу свою на море, а левую на землю» (Откр. 10:2).
Лирический герой обещает «град Инонию, / Где живет божество живых» (II, 62), и в этом образе совмещаются пророчества Апокалипсиса о Новом Иерусалиме и пророчества Иеремии об Иерусалиме, где «не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Но путь в этот град, к Царству Божию, в поэме Есенина лежит через космические катастрофические события, как описано в Апокалипсисе.
Только когда «отплещут уста громов», явится Инония «с золотыми шапками гор». Изображению Инонии сопутствуют торжественные и радостные песнопения «Слава в вышних
Богу!» (II, 68), «Радуйся, Сионе, / Проливай свой Свет» (II, 68). В последнем четверостишии «маленькой» поэмы в первых двух строках изображается «Новый Спас», который «едет на кобыле»: в Апокалипсисе Слово Божие на белом коне является в конце Страшного суда (Откр. 19:11). Заключительные строки еще раз возносят гимн «религии сердца»: «Наша вера — в силе, / Наша правда — в нас» (II, 68). В них заключается смысл пророчества Иеремии, которое читается в Великую субботу: «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»16, в Евангелии это пророчество восполняется словами Христа: «Царствие Божие внутри вас есть»20. Есенинские строки корреспондируются и со словами св. Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!»
Апокалиптические пророчества о Страшном суде репрезентируются в метатексте есенинского цикла лейтмотивами гибели, громов и бурь, звуками труб, рева и гула, падения звезд и града с небес: «гибель так близка» (II, 51), «ревет златозубая высь» (II, 52), «закружились под гул Волга, Каспий и Дон» (II, 38), «под плугом бури ревет земля» (II, 54), «ласточки-звезды канули вниз» (II, 50).
Поэт воплощает евангельские и апокалиптические образы Страшного суда, которые во время богослужения раскрываются в библейских чтениях и являются определяющими для православного сознания эсхатологическими образами:
— ангелов Апокалипсиса (в маленькой поэме «Инония» «Новый Содом сжигает Егудиил» (II, 53), в поэме «Товарищ» изображение картины Страшного суда начинается с образа в окне: «два ветра взмахнули крылом» (II, 31));
-
— брачного пира («Всех зовешь ты на пир, / Тепля клич, как свечу» (II, 38.));
-
— жатвы («Все мы — яблони и вишни / Голубого сада. / Все мы — гроздья винограда / Золотого лета. / До кончины всем нам хватит / И тепла и света!» (II, 28));
-
— притчи о богаче и Лазаре (в «тех благих селеньях» «кто сегодня был любимец — завтра нищий человек» (II, 59));
-
— воскресения мертвых («То душ преображенных / Несчис-лимая рать, / C озер поднявшись сонных, / Летит в небесный сад» (II, 57), «Уже встал Иоанн, изможденный от ран» (II, 28));
-
— насыщения жаждущих («Чтоб жаждущие бденья / Извечьем напились» ( II, 41));
— утешения всех претерпевающих страдания на земле («Прижимаешь к плечу / Нецелованный мир» (II, 38)).
В поэтике «необиблейского цикла», рассмотренного как единый метатекст, лежит образ православного богослужения. Тема эсхатологии здесь раскрывается в концептуальном пространстве православного сознания. Ветхозаветные мотивы и пророчества и различные эсхатологические образы Нового Завета в поэзии Есенина обретают свое значение и поле смыслов в соответствии с их православной рецепцией. Безусловно, использование поэтом образов и текстов богослужения не означает соответствия его поэтики духовным смыслам православного богослужения. Художественное сознание Есенина, как уже было сказано, обнаруживает парадоксальную духовную противоречивость, двойственность. Он восхваляет Творца, буквально цитируя православные богослужебные песнопения («Хвалите Бога!» (II, 26), «Осанна в вышних!» (II, 41–45), «Слава в вышних Богу!» (II, 68), и в то же время делает кощунственные с точки зрения христианства заявления: «Богу я выщиплю бороду» (II, 62), «тело, Христово тело / Выплевываю изо рта» (II, 61). Эта особенность поэтики «необиблейского цикла» позволяла делать крайние, противоположные оценки современникам поэта, принадлежавшим к разным политическим лагерям, и порождает различные интерпретации поэзии этого периода различными литературоведами последних десятилетий.
В «необиблейском» цикле Есенина отразились противоречивые духовные искания эпохи, эстетические воззрения и поэтические практики Серебряного века. При этом основным источником поэтического языка Есенина в рассматриваемый период является сложная образность и символика православного богослужения и Священного Писания, красота богослужебных песнопений и величие библейских об- разов, усвоенные им в детские и отроческие годы в опыте православного богослужения и во время занятий в земской второклассной учительской школах.
Примечания
Статья написана при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-18-02709 «”Вечные” сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма» (2014–2016).
Есенин С. А. Полн. собр. соч.: В 7 т. М.: Наука; Голос, 1995—2002. Т. 1. 1995. С. 131. Далее это издание цитируется в круглых скобках с указанием тома и страницы.
Часослов. М.: Изд. совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 64. Минея праздничная. М.: Донской монастырь; Изд. отдел Московской патриархии; ТОО «Кузнецкий мост», 1993. С. 190.
Триодь Цветная. М.: Изд-во Московской патриархии, 1975. С. 4, 8.
Триодь Постная. Ч. 2. М.: Изд. совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 391, 392.
Триодь Цветная. М.: Изд-во Московской патриархии, 1975. С. 15.
Октоих. М.: Изд-во Московской патриархии, 1962. С. 162.
Октоих. Указ. изд., 1962. С. 131.
Триодь Постная. Ч. 2. Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 392.
Часослов. М.: Изд. совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 60, Октоих. М.: Изд-во Московской патриархии, 1981. С. 53.
Подробнее см.: Соловьева М. А. Поэма С. А. Есенина «Сельский часослов»: текст и прототекст // Сергей Есенин и русская история: Сб. трудов по материалам Международ. науч. конф., посвященной 117-летию со дня рождения С. А. Есенина и Году российской истории. Москва-Константиново-Рязань. 2013. С. 303–304.
-
С. А. Есенин в воспоминаниях современников» / Вступ. статья, сост. и коммент. А. А. Козловского. М.: Худож. лит., 1986. Т. 1. С. 265.
Рождественский Вс. Сергей Есенин // С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Указ. соч. Т. 2. С. 124.
-
С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Указ. соч. Т. 1. С. 299. Триодь Постная. Ч. 2. М.: Изд. совет Русской Православной Церкви,
2002. С. 498.
OLD TESTAMENT PROPHECIES AND ESCHATOLOGICAL IMAGERY IN SERGEI YESENIN'S POETRY (1918 – 1919)
Список литературы Ветхозаветные пророчества и эсхатологические образы Нового Завета в лирике С. А. Есенина 1918-1919 гг
- Большов Е., иерей. Размышляя о богослужении//Сайт Уваровского благочиния. http://uvarovo-temple.ru/?p=1648#respond (дата обращения: 01.07.2014)
- Воронова О. Е. Концепция мира-храма и литургические основы поэтического космоса С. А. Есенина//Сергей Есенин и русская духовная культура: Рязань: Узорочье, 2002. С. 80-106.
- Воронский А. К. Об отошедшем//О Есенине/Сост. С. П. Кошечкин. М.: Правда, 1990. С. 102.
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 349-362.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. 562 с.
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского//Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 37-49.
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск, 1994. С. 249-261.
- Захарова О. В. «Илья Муромец. Сказка Руси богатырской» В. И. Даля (проблема жанра)//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 283-294.
- Илларион (Алфеев), архиеп. Православие: В 2 т. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. Т. 2. С. 341.
- Иов (Геча), архим. «Се Жених грядет в полунощи..» (Эсхатологический характер богослужений первых трех дней Страстной седмицы)//Материалы богословской конф. Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение Церкви» (Москва, 14-17 ноября 2005 г.). Сайт Синодальной Библейско-богословской комиссии РПЦ: http://www.theolcom.ru/doc/day2.sect2.04.Getcha.pdf (дата обращения: 01.07.2014)
- Киселева Л. А. Икона и орнамент в лирике Сергея Есенина 1914-1917 гг.//C. А. Есенин и Православие. М.: ЗАО Издат. дом «К единству!», 2011. С. 227-242.
- Лепахин В. В. Иконичность двуединого мира в лирике Сергея Есенина//C. А. Есенин и Православие. М.: ЗАО Издат. дом «К единству!», 2011. С. 180-205.
- Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т./РАН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Т. 2: 1917-1920. С. 81.
- Мень А., прот. История религии. В поисках пути, истины и жизни: В 7 т. Т. 5: Вестники Царства Божия. Библейские пророки от Амоса до реставрации (VIII-IV вв. до н. э.). М.: Изд-во Советско-Британского совместного предприятия «Слово», 1992. С. 84.
- Мень. А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного писания. Ветхий Завет/Фонд им. А. Меня. Общедоступный православный университет, основанный прот. А. Менем. М.: 2000. С. 325-326, 375-376.
- Мочульский К. В. Мужичьи ясли//Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск: Водолей, 1999. С. 212.
- Скороходое М. В. Раннее творчество С. А. Есенина в историко-культурном контексте («Радуница» 1916 г. и маленькие поэмы 1917-1918 гг.). Автореф. дис.. канд. филол. наук. М.: ИМЛИ РАН, 1995. С. 18.
- Субботин С. И. Комментарии//Есенин С. А. Полное собрание сочинений: в 7 т. М.: Наука: Голос, 1995-2002. Т. 2: Стихотворения (Маленькие поэмы). 1997. С. 336.
- Тарасое К. Г. Пасхальные мотивы в творчестве В. И. Даля//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 295-302.
- Филатоеа О. А. Христианские мотивы и образы ранней поэзии С. Есенина//Русская речь. 2010. № 4. С. 34-40.
- Шмеман А., прот. Православное Богослужение. Литургия//Электронная библиотека Одинцовского благочиния. http://www.odinblago.ru/liturgika/shmeman_liturgiya/(дата обращения: 01.07.2014)
- Чернявский В. С. Три эпохи встреч (1915-1925)//C. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 1. С. 220.