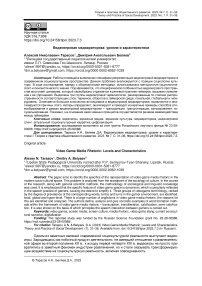Видеоигровая медиариторика: уровни и характеристики
Автор: Тарасов А.Н., Беляев Д.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена выявлению специфики репрезентации видеоигровой медиариторики в современном социокультурном пространстве. Данная проблема анализируется с позиции социологии культуры. В ходе исследования, наряду с общенаучными методами, использовалась методология социологического и лингвистического знания. Подчёркивается, что специфической особенностью видеоигрового пространства выступает динамизм, который своеобразно отражается в речевой практике геймеров, вызывая стремление к ее упрощению. Выделены три группы видеоигровой терминологии, ранжированные по степени распространённости соответствующих слов, терминов, оборотов в геймерской среде: локальная, глобальная и гиперуровень. Отмечается большое количество англицизмов в видеоигровой медиариторике, выявляются и анализируются причины этого. Авторы определяют, анализируют и приводят конкретные примеры способов словообразования в рамках видеоигровой медиариторики - транскрипции, транслитерации, калькирования, полукалькирования. Показано, на основании каких именно принципов осуществляется речевое взаимодействие между геймерами.
Видеоигры, экранные медиа, экранная культура, медиариторика, видеоигровой сленг, актуальный социокультурный нарратив, цифровизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149143938
IDR: 149143938 | УДК: 316.7:808 | DOI: 10.24158/tipor.2023.7.3
Текст научной статьи Видеоигровая медиариторика: уровни и характеристики
1,2Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semyonov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russia , ,
Изучение видеоигр – Game Studies – относится к числу типичных примеров междисциплинарных исследований. Причём междисциплинарность в данном случае предполагает использование теоретико-методологического потенциала как естественнонаучного, так и социогуманитар-ного знания. Очевидно, что если, например, речь идёт об изучении механики видеоигр, их характеристиках физического свойства, то требуется обращение к техническим наукам. С другой стороны, исследование влияния видеоигрового контента, например, на трансформацию повседневности потребует обращения к потенциалу социогуманитарных наук.
Малоизученным, а потому перспективным для научных изысканий представляется исследование видеоигр с позиции социологии культуры, а конкретнее – социологии языка. Иными словами, интересным и актуальным на современном этапе развития социологии культуры представляется анализ особенностей речевого взаимодействия между участниками видеоигрового пространства с позиции выявления определённых закономерностей в нем, обусловленных как собственно спецификой видеоигр, так и той социокультурной средой, в рамках которой выстраиваются взаимоотношения между геймерами на уровне речевого общения.
Заметим также и то, что анализ массива литературы по данной проблематике показывает, что в настоящее время это то направление социологии, которое вполне корректно может быть охарактеризовано как формирующееся. Именно этим следует, на наш взгляд, объяснять сравнительно небольшое количество работ, в которых представлены особенности видеоигровой медиариторики. Отмеченное обстоятельство также актуализирует исследование заявленной проблематики и придаёт ей научную новизну.
Методологически изучение видеоигровой медиариторики опирается на принципы междисциплинарного подхода, а также нарративного исследования медиаартефактов. Сквозными методами исследования выступили социологический и лингвистический виды анализа – они составили методологическое основание настоящей работы.
Зарождение видеоигровой медиариторики как феномена социокультурного пространства началось одновременно с появлением игровой индустрии и относится примерно к 1970-ым гг. (Сапронова, 2016: 171). Формируемое видеоигровое пространство представляет собой новый и по-своему уникальный феномен, репрезентующий в обществе социокультурное явление качественно иного порядка. В его рамках был создан новый вид реальности – виртуальной. Она копировала существующую, но при этом создавала значительно большие возможности по преобразованию действительности. Виртуальная реальность развивалась по иным законам и принципам, нежели обычная. Специфической особенностью ее стал динамизм – существенное увеличение темпа процессов, протекавших внутри неё и, соответственно, отличавшихся от тех, которые развивались в русле повседневности. Динамизм как характеристика видеоигрового пространства во многом определил особенности видеоигр как феномена социокультурного пространства, включая и специфику репрезентации медиариторики в нём.
Появление специфической терминологии, зародившейся в видеоигровом пространстве, во многом было обусловлено именно феноменом динамизма, отражавшимся в её бытовании. Большинство работ современных исследователей определяют видеоигровую терминологию и соответствующую её речевую практику понятием «сленг» (Беляева, Лукашина, 2022: 91; Когай, 2019: 13; Ромах, 2007: 70), имея в виду специфический, преимущественно разговорный тип речи, который характерен для определённой области деятельности. Безусловно, видеоигровая медиариторика тяготеет к разговорному типу речи, что наиболее полно проявляется в стремлении к упрощению, характерному для видеоигрового сленга. Последнее учитывает специфику видеоигровой реальности и отражает определённые ее маркеры. Иными словами, такого рода сленг изобилует множеством специальных слов и оборотов, которые образуются по определённым правилам лингвистики. Заметим также, что в последние два года в среде исследователей видеоигровой медиариторики утверждается позиция, в соответствии с которой речевая практика геймеров определяется не как сленг, имея ввиду негативную коннотацию этого термина, а как явление, отражающее специфику соответствующей профессиональной деятельности (Беляева, 2022: 198; Селютин, 2021: 132).
Подобная оценка имеет под собой достаточно весомые основания, поскольку видеоигровая индустрия развивается стремительно и действительно обретает характеристики конкретной отрасли профессиональной деятельности. Свидетельством этого является, например, обретение киберспортом официального статуса, что уже произошло в России и других странах. Не следует игнорировать и тот факт, что сегодня геймерство превращается из хобби – занятия для развлечения и времяпрепровождения – в деятельность, позволяющую игрокам получать оплату за свой труд. Именно поэтому можно предположить, что уже в недалёком будущем видеоигровая медиариторика исследователями будет определяться не как сленг, а как атрибут конкретной профессии.
Стремительное развитие информационных технологий обуславливает сообразную динамику изменений, характеризующих развитие видеоигровой речевой практики. В частности, П.С. Смирнов и Ю.С. Жилина отмечают, что «состав сленгизмов меняется каждые 5–7 лет, а состав компьютерного сленга – ещё быстрее» (Смирнов, Жилина, 2021: 129). Указанный динамизм создаёт определённые трудности при изучении культурсоциологических аспектов видеоиг-ровой медиариторики, поскольку период существования фиксируемых явлений и фактов оказывается малым по времени. Однако общие тенденции с позиции социологии культуры всё же определить возможно.
Всю совокупность видеоигровой терминологии в зависимости от степени распространённости слов и оборотов можно разделить на несколько групп.
Первую из них образует локальная терминология, или локальный видеоигровой сленг. Эта группа представлена речевой практикой, характерной для конкретного видеоигрового сообщества, то есть для геймеров, которые играют в одну и ту же игру или же в различные её серии (части, эпизоды). Локальная группа видеоигрового сленга носит достаточно зауженный характер, поскольку предел её распространения крайне ограничен (фактически – рамками одной игры), а потому подобная речевая практика может быть непонятна геймерам, в среде которых данная игра не популярна. Анализируя эту группу видеоигровой терминологии В.А. Комаров и И.А. Шушарина приводят такой пример: в игре «StarCraft» встречается характерное исключительно для неё слово «GOSU». Оно обозначает наиболее сильных и опытных игроков и применяется только в данной видеоигре (Комаров, Шушарина, 2019: 89).
В целом, описывая группу локальной терминологии В.В. Богуславская, А.О. Азизулова, Е.А. Будник, Л.В. Шарахина в своей совместной работе отмечают, что неподготовленному читателю, знакомящемуся с характеристикой конкретной игры подобные тексты воспринимать достаточно сложно, поскольку они изобилуют специальной, характерной только для данной видеоигры терминологией (Лингвистическая репрезентация киберспортивного медиасообщества …, 2018: 108).
Следующая группа – это глобальный видеоигровой сленг, который представляет собой такую речевую практику, которая используется во всех или в абсолютном большинстве видеоигр. Типичными примерами глобального видеоигрового сленга выступают, например, такие термины, как «нуб» или «донатер». Первое слово, используемое во всём видеоигровом контенте, обозначает игрока, который пока не приобрёл достаточного опыта, а потому действует неумело, фактически является новичком в данной игре. Второе –обозначает геймера, который вкладывает реальные деньги в игру для получения каких-либо бонусов или привилегий в ней. Приведённые термины являются наиболее очевидными для группы глобального видеоигрового сленга, поскольку вошли в словарный оборот всех геймеров, независимо от конкретных примеров видеоигр.
Помимо локальной и глобальной групп видеоигровой медиариторики уже упоминавшийся исследователь А.А. Селютин предлагает выделять также и «гиперуровень», к которому предлагает отнести совокупность речевой практики, в целом, характерной для IT-индустрии, но при этом широко представленной и внутри видеоигрового пространства (Селютин, 2021: 132). Данное предложение представляется нам вполне уместным, поскольку вся IT-индустрия выступает основой для развития видеоигрового контента.
Для каждого из трёх выявленных уровней – локального, глобального, гиперуровня – характерно то, что подавляющее большинство используемых на каждом из них терминов представляют собой англицизмы, то есть слова, заимствованные геймерами из английского языка. Этому способствует несколько причин.
Первая из них связана с тем, что видеоигры и в целом IT-технологии изначально формировались в США, где, как известно, английский язык является официальным. Соответственно, последующее развитие индустрии происходило на том фундаменте, который был заложен в Соединённых Штатах, а потому изменять установившийся «лингвистический порядок» было уже поздно.
Вторая причина широкого распространения заимствований в видеоигровой индустрии связана со спецификой английского языка. В сравнении со многими иными он строится на относительно простых правилах. В то же время для видеоигровой реальности, как мы показали выше, характерен динамизм, проявляющийся, например, в частой смене «игровой картинки». В этих условиях для быстрой, простой и одновременно ёмкой передачи информации требуются короткие слова и обороты. Именно английский язык удовлетворяет этому требованию: среднее английское слово – одно- или двухсложное, что отличает этот язык от других широко представленных в мире (Смирнов, Жилина, 2021: 132).
Преимущественно именно на основе англицизмов формируется специфическая видеоиг-ровая медиариторика, хотя, безусловно, не следует исключать и заимствования из соответствующих национальных языков.
Исследователи отмечают различные способы образования видеоигровых лексем (Комаров, Шушарина, 2019: 89–90; Милёшина, 2021: 366–367). Наиболее распространёнными среди них являются транскрипция и транслитерация. В первом случае образуемый термин передаёт произношение слова с учётом артикуляции языка, на котором это слово произносится. Типичным примером транскрипции выступает термин «аккаунт», обозначающий личную страницу или личный кабинет геймера. Произношение этого слова в русском языке – это транскрипция английского слова «account».
Второй, широко представленный способ словообразования видеоигровой терминологии – транслитерация – передаёт написание слова в языке-первоисточнике с учётом правил произношения, которые в нем действуют. Типичным примером такого словообразования выступает видеоиг-ровой термин «дамаг», означающий «повреждение», «вред». Эта лексема образована от английского «damage» и произносится в русском языке по правилам чтения, действующим в английском.
Существуют и иные, несколько менее распространённые способы словообразования ви-деоигровой терминологии. Например, калькирование. Это способ словообразования, предполагающий дословный перевод термина или оборота с одного языка на другой. В качестве конкретного примера в данном случае можно указать такой видеоигровой термин, как «дополнительная реальность», выступающий переводом английского словосочетания «augmented reality».
К числу способов словообразования видеоигровой терминологии относится и полукалькирование, при котором переводится только часть выражения (одно слово), другая же его часть формируется по принципу транслитерации или транскрипции. Примером полукальки является оборот, широко представленный и на глобальном уровне видеоигрового сленга, и на его гиперуровне, – «бета-тестирование». В данном случае первая часть представляет собой транслите-рацию/транскрипцию, а вторая – перевод термина с английского языка на русский.
Заметим, что существуют и иные способы словообразования, однако мы, учитывая реализацию нашего исследования в рамках социологии культуры, на них останавливаться не будем.
Представленные способы словообразования свидетельствуют о стремлении игроков к упрощению при формировании новых терминов в рамках видеоигровой медиариторики. Это является следствием особенностей видеоигрового пространства, для которого – вновь это повторим – характерен динамизм, проявляющийся в быстрой смене действий в игре. С.С. Вдовиченко отмечает, что данное явление стало ключевым фактором в возникновении множественных ошибок лексического и орфографического свойства, характерных для образованных игровых терминов (Вдовиченко, 2016: 13).
Видеоигровая индустрия в своем развитии испытала мощное влияние американской массовой культуры. В частности, в среде геймеров считается нормой повышенная возбудимость и крайне эмоциональная реакция на победу или поражение, которые могут вызывать непонимание со стороны человека, далёкого от видеоигрового мира. Для общения геймеров характерны: агрессия, эгоцентризм и прямота. Необходимость быстрого решения задачи, возникшей в процессе игры, формирует специфику межличностного реального взаимодействия.
Словообразовательный процесс у геймеров характеризуется присутствием большого числа существительных и глаголов и малым количеством прилагательных. Это объясняется отмеченным явлением динамизма, поскольку в условиях быстрой сменяемости действия нет времени давать описательные характеристики происходящего посредством прилагательных.
Анализируя специфику видеоигровой медиариторики, К.В. Богданова подчёркивает, что в текстах видеоигр (например, при формулировании заданий) достаточно часто разработчики обращаются к отрывкам из так называемых «прецедентных текстов», например, из Библии, или же используют отрывки из произведений, преимущественно, массовой культуры, например, из работ Ф. Рабле (Богданова, 2017: 35). Подобное обращение позволяет внести элемент реалистичности в происходящее, показать связь действительного и виртуального миров, что в конечном счёте привлекает большее количество геймеров к конкретной игре.
Таким образом, видеоигровая медиариторика представляет собой достаточно новое направление для изучения в рамках социологии культуры. Однако уже можно определить отдельные закономерности, характерные для неё. Во-первых, это множественные заимствования из английского языка, выступающие основой для словообразования соответствующих терминов. Во-вторых, динамизм видеоигрового пространства, обуславливающий особенности речевой практики геймеров: их словарный запас стремится к максимальному упрощению, а взаимоотношения на речевом уровне определяются стремлением к вербальному доминированию над другими игроками, что находит отражение в соответствующих словах и оборотах.
Список литературы Видеоигровая медиариторика: уровни и характеристики
- Беляева У.П. Потенциал видеоигр в качестве коммеморативных практик современности // Гуманитаристика в условиях современной социокультурной трансформации. Липецк, 2022. С. 197–200.
- Беляева У.П., Лукашина В.Д. Современные исторические видеоигры: основания и траектории политизации // Традиции и инновации в пространстве современной культуры. Липецк, 2022. С. 90–95.
- Богданова К.В. Англоязычный дискурс ролевых видеоигр: интерсексуальный аспект // Rhema. Рема. 2017. № 2. С. 27–40.
- Вдовиченко С.С. Речевой портрет языковой личности игрока в Dota2 // Научный диалог. 2016. № 2 (50). С. 9–20.
- Когай Е.А. Молодежный экстремизм и виртуальный мир // Социально-гуманитарное обозрение. 2019. № 1 (1). С. 13–14.
- Комаров В.А., Шушарина И.А. Игровой сленг в современном русском языке // Вестник Курганского государственного университета. 2019. № 1 (52). С. 88–90.
- Лингвистическая репрезентация киберспортивного медиасообщества / В.В. Богуславская [и др.] // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 4 (30). С. 104–111.
- Милёшина Л.В. Особенности молодёжного сленга в речи современного школьника // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10, № 3 (36). С. 308–311. https://doi.org/10.26140/bgz3-2021-1003-0077.
- Ромах О.В. Культурологическое образование в процессах глобализации // Фундаментальные исследования. 2007. № 7. С. 69–72.
- Сапронова Е.А. Лингвокультурологические особенности влияния MMORPG-сленга на современное общество // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 5 (47). С. 170–173.
- Селютин А.А. Игровой сленг и трансмедийность // Вестник Челябинского государственного университета. 2021. № 7 (453). С. 131–137. https://doi.org/10.47475/1994-2796-2021-10717.
- Смирнов П.С., Жилина Ю.С. Перевод сленга хакеров и геймеров с английского и немецкого языков на русский // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2021. № 3 (51). С. 129–135. https://doi.org/10.52772/25420291_2021_3_129.