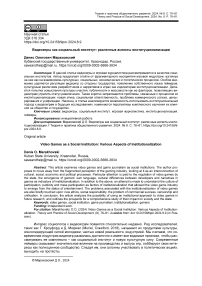Видеоигры как социальный институт: различные аспекты институционализации
Автор: Мараховский Д.О.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье видеоигры и игровая журналистика рассматриваются в качестве социальных институтов. Автор предлагает отойти от фрагментарного восприятия игровой индустрии, взглянув на нее как на взаимосвязь культурных, социальных, экономических и политических процессов. Особое внимание уделяется регуляции видеоигр со стороны государства, появлению собственного языка геймеров, культурным различиям разработчиков и нарративов в играх как индикаторам институционализации. Делается попытка осмысления культуры участия, публичности и массовости как ее факторов, позволивших видеоиграм утратить статус развлечения. Также коротко затрагиваются проблемы, связанные с процессом их институционализации: новая этика, социальная ответственность, проблема коммерческого успеха, цензурирования и унификации. Наконец, в статье анализируется возможность использовать институциональный подход к видеоиграм в будущих исследованиях, намечаются перспективы комплексного изучения их влияния на общество и государство.
Видеоигры, социальный институт, игровая журналистика, институционализация, геймеры
Короткий адрес: https://sciup.org/149146070
IDR: 149146070 | УДК: 316.334 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.9
Текст научной статьи Видеоигры как социальный институт: различные аспекты институционализации
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
,
Необходимо отметить, что видеоигры все чаще начинают рассматриваться социологами в геополитическом ключе – как противостояние культур Запада и Востока, их социального и политического контекстов. Поскольку Game studies в широком смысле данного направления работает с видеоиграми в основном как с культурным продуктом, мы видим основания раскрыть обозначенную дихотомию в рамках развития видеоигровой индустрии, опираясь на социальную проблематику.
Тематические исследования показывают, что среди собраний поклонников видеоигр существует доминирующая социальная структура. Ф. Майра утверждает, что геймеры, которые собираются вместе, чтобы поиграть, имеют схожий словарный запас, участвуют в общественных ритуалах и часто интересуются культурными объектами, такими как атрибутика видеоигр (Mayra, 2008). Д. Джи в своей основополагающей книге «Чему видеоигры могут научить нас в области грамотности и обучения» охарактеризовал 36 принципов освоения видеоигр и объяснил, как они могут помочь геймерам развить понимание различных культурных режимов, погружая их в определенное мировоззрение (Gee, 2003).
И хотя у понятия «социальный институт» до сих пор нет единого толкования, существует ряд признаков, характеризующих видеоигры в качестве такового. Рассмотрим их подробнее.
-
1. Между всеми участниками выстроены конкретные общественные отношения: онлайн-взаимодействие, совместное посещение мероприятий, обмен опытом. Они носят неслучайный характер, постоянно воспроизводятся и вовлекают новых участников. Взаимодействие направлено на создание и потребление контента, отношения преобразовываются в ресурсы, влияют на игровые структуры и сами являются их частью.
-
2. Игровая индустрия встроена в экономику государств, включая как развитые, так и развивающиеся страны. Киберспортивные турниры для них – не только имиджевый ход, но и статья пополнения бюджета. Молодежь сегодня склонна рассматривать карьеру геймера в качестве основного социального лифта, а университеты предлагают программы киберспортивного образования по программам бакалавриата и магистратуры.
-
3. Законодательно закрепляется статус видеоигр, регулируется возрастной ценз, даются разрешения или накладываются формальные запреты на выпуск таковых. Исходя из политического курса страны, ее идеологических, экономических и политических установок, в законодательстве закладываются границы дозволенного и даже формулируются рекомендации для компаний-производителей. Игровые компании вынуждены подчиняться установленным правилам, тогда как сами геймеры зачастую оказывают им сопротивление и даже влияют на отмену ограничений, связанных с играми.
Говоря о причинах институционализации видеоигр, следует сказать о том, что центральной категорией в этом отношении стала культура участия. В видеоигре игроку как демиургу предоставляется главная роль или одна из нескольких равноценных. Будучи наблюдателем или активным участником процесса, он волен делать чуть больше, чем возможно в реальном мире, чем дозволено социальными нормами или законом. Повсеместную игроизацию (геймификацию) С.А. Кравченко описывает как реакцию на неопределенность в развитии современных обществ. Исследователь понимает ее как внедрение принципов игры во все сферы жизни, новую парадигму рациональности, иной способ переживания реальности. При этом, говоря о культуре участия, он отмечает, что игроизация сама по себе не тождественна игре: последняя как действие или продукт культуры может не иметь конечной цели; игроизация же следует практическим интересам выгоды и пользы (Кравченко, 2007).
В случае с непубличным геймингом (офлайн-играми) не стоит вопрос о социальных последствиях действий пользователя, или же они касаются сугубо не-людей (non-humans). Публичный гейминг во время онлайн-трансляции или в многопользовательской игре подразумевает распределенную ответственность между всеми акторами. Культура участия проявляется в том, как игроки способны оказывать взаимное влияние друг на друга, индустрию и культуру. Учитывая потенциальную опасность действий геймеров во внутриигровых мирах, травлю, политические высказывания, идеологическое воздействие используемого контента, регуляция видеоигр обусловила их институционализацию.
Нередкий пример – непозволительные жесты игроков в адрес своих зрителей или оппонентов, демонстрируемые во время офлайн-турниров и игровых фестивалей. Общество и власть зачастую резко реагируют на подобные перформансы, «отменяя» участников турниров, запрещая им дальше вести киберспортивную деятельность, выписывая им штрафы. Так, знак «паци-фик» и знак «окей» (знак мира) Антидиффамационная лига расценила как расистские, хотя изначально в них не закладывались подобные смыслы. Этот обратный эффект носит характер проблемы: с одной стороны, объективные структуры образуют основу для представлений, в данном случае – нормируют поведение; с другой – действия формируют новые структуры, как в случае с появлением актуальных правил для онлайн-стриминга и поведения в Интернете.
Еще одна причина, обратная первой, – необходимость государств лоббировать социальные и политические интересы через видеоигры. Сегодня в Китае на игровых выставках крупные компании, такие как Tencent, представляют видеопродукт на коммунистическую и патриотическую тематику. В игре «Homeland Dream»1 пользователям предложено развивать китайскую провинцию, бороться с бедностью, недобросовестными застройщиками и снижать налоги: все это отражает ключевые цели современного Пекина. Игровые журналисты утверждают, что подобные игры могут вызывать тревожное привыкание, поскольку они вовлекают геймера в ежедневное посещение игрового мира, обеспечивают ритуализацию его действий (сбор ресурсов, накопление контентной валюты), а также заставляют покупать за реальные деньги материалы для улучшения персонажей игры или ее локаций2. Стоит отметить, что подобный тип игр сегодня практически захватил мобильный рынок, поэтому мы не можем считать данный случай частным. И хотя мы не знаем наверняка, выделялись ли на данную игру государственные бюджеты, очевидно, что компании-производители могут подвергаться внутренней регуляции и иметь некоторую зависимость от государства. В подобной ситуации находится и корейская, и американская индустрия, где разработчики, не имеющие высоких бюджетов, вынуждены подстраиваться под регулятора и не получать от этого особенных преференций. Так, сегодня международная компания Mihoyo теряет доход по причине временных ограничений на микротранзакции в играх, максимальное игровое время для подростков, а также цензуры, касающейся телесности, жесткости игровых сцен.
Кроме вышесказанного, видеоигры очевидным образом, несмотря на свою короткую историю, вобрали в себя сюжеты самых различных культур, начиная от древности и не ограничиваясь настоящим, их разработчики фантазируют на темы будущего – трансцендентного, сверхъестественного. В силу разного культурного опыта они успели обрасти своей стилистикой в зависимости от страны-производителя. Так, например, в игре «Europa Universalis»3 и других подобных стратегиях присутствует очевидный евроцентризм и колониализм. Японские ролевые игры зачастую отражают главные проблемы местного общества: гендерное неравенство, насилие, добровольный уход из жизни. Североамериканская игровая традиция, как правило, опирается на патриотические сюжеты и культуру разнообразия. Разные этнические и социальные группы по всему миру все чаще заявляют о своей малой представленности в видеоиграх, хотя в последние годы мы наблюдаем тренд на добавление нетипичных игровых персонажей.
Очевидно и использование единого языка геймерами. Как было сказано выше, речь идет не столько о неологизмах, сколько об универсальных фразах и жестах, используемых игроками для преодоления языкового барьера. Возникновение такого способа коммуникации неразрывно связано и с ненавистью, которая свойственна определенным группам геймеров. В их традиции – оскорблять или унижать оппонента так, как это не делают другие представители социальных или профессиональных групп. Существуют даже внутриигровые жесты (например, приседание), призванные унизить оппонента, так как важный игровой элемент – доминирование над соперником.
Язык геймеров зачастую расценивается как сексистский и расистский. В нем часто используются этнические и гендерные клише. Его применение осуждается лишь частью игрового сообщества, поскольку считается «неспортивным». При этом, как показывают исследования, интегративная функция видеоигр порой главенствует над их содержанием. Так, исследователи использовали сравнительную этнографию, чтобы изучить причины, по которым посетители двух интернет-кафе, одного – в Мельбурне и одного – в Каракасе, играют в южнокорейскую игру «GunBound». В результате выяснилось, что последняя больше интересует студентов из Мельбурна, которые хотят воссоединиться с другими игроками из Азиатско-Тихоокеанского региона; в Каракасе же играют венесуэльские игроки, которые хотят общаться с другими испаноязычными игроками из Латинской Америки (Obreja, 2023).
Совершив шаг в сторону, мы можем увидеть, как журналистика связана с институционализацией видеоигр. Западные колумнисты зачастую сотрудничают с геймерскими компаниями и властями, чтобы продвигать определенные социальные и политические взгляды. Благодаря игровой журналистике возник Gamer Gate, который начинался как выяснение отношений между журналистами, а закончился самым глобальным поворотом американской игровой индустрии к неолиберальным ценностям, преследованием консервативных журналистов. В свою очередь современные игроки вынуждены становиться на ту или иную сторону: покупая игры, они спонсируют компании-производители, которые в свою очередь продвигают различную социополитическую повестку. И игры как часть культуры оказались ангажированы куда сильнее, чем музыка или кинематограф. Безусловно, крупные игровые разработчики стараются сделать свой продукт универсальным, однако попытка угодить пользователям любых взглядов порицается как рядовыми геймерами, так и игровыми журналистами. Так, например, ряд критиков обвиняет современные японские игры в излишней сексуализации женских персонажей. Их разработчики в свою очередь стоят перед сложным выбором: им необходимо определить, какую часть рынка они потеряют ради удовлетворения новых норм определенных социальных групп.
Принимая во внимание влияние игровой журналистики на геймеров, необходимо отметить, какое действие она может оказывать на рядовых разработчиков. Апогеем Gamer Gate стал уход из жизни канадского геймдизайнера А. Холовки. Травля разработчика в Интернете показала высокий уровень конфликта интересов в индустрии и навсегда изменила сообщество геймеров.
Не менее важной задачей видеоигр как института является возможность самореализации геймера в его рамках. Желание пользователей идентифицировать себя с главными героями игр является закономерным, а потому разработчики используют этот прием, чтобы сформировать у больших масс определенные паттерны мышления. Идентификация проходит в несколько этапов. Игроки могут отождествлять себя с персонажами, которые похожи на них, соответствуют их идеалу красоты или силы. С помощью пола героя игры, расы, его телесных возможностей и ограничений, жизненного опыта, социальных связей и действий геймер выстраивает эмоциональную связь с ним, может виртуально самовыражаться. И хотя излишнее отождествление может приводить к потере самоидентичности и зависимостям, сейчас этот механизм – одна из немногих возможностей удержания внимания взрослого игрока1.
Таким образом, мы можем полагать, что видеоигры полностью прошли процесс институционализации, и этому есть несколько подтверждений:
-
1. Существует общественная потребность в играх, принимаемая и осознаваемая социумом.
-
2. Цели института сформированы, хоть и раздроблены на части: объединение единомышленников, создание игр как искусство, разработка идеологического контента, достижение экономических приоритетов и т.д.
-
3. Появились соответствующие общественные нормы, в случае видеоигр они были выведены из стихийно сформированной внутриигровой этики. В общем смысле, если рассматривать североамериканский и западноевропейский опыт, видеоигры смогли повлиять на социальные нормы других сфер культуры.
-
4. Появилась геймерская символика: мерч, атрибутика команд, флаги.
-
5. Выстроена статусно-ролевая система: как во внутриигровом мире, так и во внешнем относительно индустрии. Статус известного геймера может напрямую меняться в зависимости от его поддержи сообществом, социальными или политическими активистами.
-
6. Накоплена материальная база института, включая социальный ресурс, культурные объекты, тематические события.
-
7. Общественная структура интегрирована в сложившуюся социальную систему.
-
8. Созданы ограничения для соответствия нормам сообщества (Шубников, 2013).
Исследователь игровой культуры М. Сикарт (Sicart, 2011) пошел дальше и выделил следующие признаки институционализации игр самих по себе:
-
1. Легитимация геймификации почти каждого аспекта социальной жизни.
-
2. Усиление идеологического или политического акцента в игровом акте.
-
3. Подчеркивание агентности игрока.
Кроме того, можно заметить, что почти каждый материальный компонент вокруг нас имеет игровое измерение, при этом многие прочие технологии подходят и даже благоприятствуют нашему игровому взаимодействию с ними. Ярким примером является приложение для знакомств «Tinder», в котором М. Гарда и В. Кархулахти (Garda, Karhulahti, 2021) обнаруживают игровой аспект, отмечая, что романтические представления пользователей, как правило, репрезентируются в форме игры.
Сегодня геймификацию используют в рамках маркетинговых кампаний в магазинах, в образовательной парадигме, в трудовых коллективах при повышении квалификации, для знакомства и т. д.2 Наиболее очевидно геймифицирована финансовая сфера: торговля акциями в приложениях, накопление кэшбека с помощью мини-игр, получение бонусов от мобильного оператора и даже букмекерство. Легитимация здесь – это процесс или факт опривычивания такого положения дел, когда серьезные вещи не воспринимаются таковыми в силу формы их представления. А.С. Кравченко также отмечает, что в современном обществе переплетается труд и игровые практики (Кравченко, 2007).
Внутренние процессы в индустрии в такой мере интернализованы, что на данный момент невозможно провести грань между порождаемыми видеоиграми практиками и тем, как они воспроизводят социальные нормы; тем, как государство регулирует видеоигры и тем, как геймерский опыт способен повлиять на социальное и политическое (Sicart, 2011).
Мы должны признать, что в последние 5 лет видеоигровые практики и конфликты между геймерами в основном строятся вокруг темы сексуальности и насилия, что тоже носит определенный политический характер. В этом смысле неолиберальная повестка занимает основное место в видеоиграх, при этом она очевидным образом нравится не всему сообществу. Иными словами, игры достаточно давно перестали быть просто развлечением, так как посылы, которые они транслируют, охватывают не только досуговую сферу. Сложно представить политическое сообщение в классической «змейке» и вполне легко – в современном интерактивном кино.
Еще один аргумент в пользу институционализации индустрии гейминга, связанный с предыдущим, – агентность пользователя в видеоиграх. До исследования Д. Мюриэла и Дж. Кроуфорда (Muriel, Crawford, 2018) теме не уделялось должного внимания со стороны социологов и культурологов. Однако это важный компонент для того, чтобы объяснить институциональный характер видеоигр. Он подчеркивает значимую характеристику социальных институтов – контроль. Концепция агентности являет собой сложную смесь человеческих и нечеловеческих элементов, что особенно очевидно в видеоиграх, которые демонстрируют высокую степень гетерогенности с точки зрения действия. «Так, видеоигры – сложные сборки, которые определяются взаимоотношениями между технологическими системами и программным обеспечением (включая встроенного в них воображаемого игрока), материальным миром, онлайн-пространством игры (если таковое имеется), игрой»1.
Не менее трудной для рассмотрения темой следует признать появление нейросетей в играх. В контексте регуляции данной индустрии со стороны государства видеоигры с искусственным интеллектом могут оказаться большой проблемой: они способны построить и развить бесконечное количество сюжетов, невзирая на этику, справедливость и прозрачность алгоритмов и т. д. Это значительным образом может повлиять не только на создателей библиотек, на которых будет работать искусственный интеллект в игре, но и на само геймерское сообщество. Внутриигровой контент будет значительно сложнее контролировать, что станет новым вызовом для регуляторов. Игроков будет ждать проблема чрезмерного погружения, манипуляции поведения, риска раскрытия личных данных. Вторичные последствия – цифровой разрыв, усиление социального неравенства в игровом контексте, монополизация рынка владельцами доминирующих нейросетевых моделей.
Таким образом, видеоигры являются неотъемлемой частью современной культуры и повседневной жизни многих людей (Obreja, 2023). Встроившись в общественные структуры, экономику и даже политику стран, они стали полноценным социальным институтом, поскольку формируют межличностные отношения, создают новые потребности, активно изменяются, подстраиваясь под современные проблемы и широкий общественный дискурс. Рассматривая видеоигры, геймеров, игровую журналистику как элементы одного социального института, мы сможем лучше понять создаваемую ими культуру, характер трансформаций внутри института и порожденные им внешние, социальные изменения. Анализ его содержания и функционала вскрывает проблемы неравенства, сексуальности, гендера, дихотомии Востока и Запада, может способствовать лучшему пониманию культуры ненависти, дискриминации, а также позволит объяснить социальные и политические интенции, стоящие за этими процессами. Игровое сообщество также показывает, какие настроения переживает социум, ведь, как правило, любые изменения в нем наиболее сильно отражаются на геймерах. Наконец, изучение повсеместной, глобальной игромании позволяет тщательнее анализировать взаимодействия людей и non-humans в качестве партнерской работы, что значительно облегчает понимание отношений человека и техники.
Учитывая вышесказанное, изучение игровой индустрии как социального института дает нам возможность исследовать две глобальные метрики – техноскептицизм и технооптимизм под другим углом, с позиции включенного в виртуальность человека, что может объяснить различия Востока и Запада в этих измерениях.
Перспективным в обозначенном контексте представляется изучение видеоигр с точки зрения фрейм-аналитики, а именно того, как они влияют на восприятие пользователями реальности, каким образом формируют у игроков новую идентичность, взаимодействуют с более широкими структурами.
Список литературы Видеоигры как социальный институт: различные аспекты институционализации
- Кравченко А.С. Игроизация общества: блага и проблемы // Сборник научно-популярных статей - победителей конкурса РФФИ. Вып 11. М., 2007. C. 270-276.
- Шубников Ю.Б. Признаки и функции социальных институтов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 4 (60). С. 44-49. EDN: RUDXID
- Garda M., Karhulahti V. Let's Play Tinder! Aesthetics of a Dating App // Games and Culture. 2021. Vol. 16, iss. 2. P. 248-261. DOI: 10.1177/1555412019891328
- Gee J.P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy // Computers in Entertainment (CIE). 2003. Vol. 1, iss. 1. P. 1-20. DOI: 10.1145/950566.950595
- Mayra F. An Introduction to Game Studies: Games in Culture. L., 2008. 212 p.
- Muriel D., Crawford G. Video Games as Culture: Considering the Role and Importance of Video Games in Contemporary Society. L., 2018. 189 p.
- Obreja D. Video Games as Social Institutions // Games and Culture. 2023. Vol. 3, iss. 1. P. 16-32. DOI: 10.1177/15554120231177479 EDN: OJGANJ
- Sicart M. The Ethics of Computer Games. Massachusetts, 2011. 272 p.