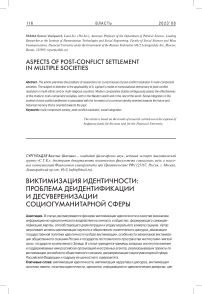Виктимизация идентичности: проблема деидентификации и десуверенизации социогуманитарной сферы
Автор: Сургуладзе В.Ш.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен виктимизации идентичности в качестве механизма информационно-идеологического воздействия на личность и общество, формирующего самоидентификацию жертвы, способствующего дезинтеграции и упадку морального климата социума. Автор затрагивает аспекты виктимизации научного и общественно-политического дискурса, реализации государственной политики идентичности на базе виктимизации, особенности механизмов виктимизации общественного сознания России и государств постсоветского пространства институтами «мягкой силы» государств коллективного Запада. В статье приводятся примеры западных институтов влияния и поддерживаемых ими российских организаций иностранных агентов, реализовывавших проекты по виктимизации российского общественного сознания, десуверенизации социогуманитарной сферы Российской Федерации и подрыву ее ценностного суверенитета.
Виктимизация идентичности, виктимизация нарратива и дискурса, виктимизация политики памяти, политика идентичности, идеология, информационно-идеологические диверсии, ценностный суверенитет, деидентификация и десуверенизация России в социогуманитарной сфере методами «мягкой силы» коллективного запада
Короткий адрес: https://sciup.org/170201753
IDR: 170201753 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9866
Текст научной статьи Виктимизация идентичности: проблема деидентификации и десуверенизации социогуманитарной сферы
В данной статье виктимизация рассматривается вне сложившихся в криминологии представлений, согласно которым виктимизация – процесс либо результат преступных действий. В контексте анализа проблематики реализации государственной политики идентичности уместно предложить следующее определение: виктимизация – осознанное либо неосознанное информационное воздействие на личность и общество, формирующее ощущение и самоидентификацию жертвы, соответствующие позиционирование и интерпретация значимых для поддержания идентичности событий, тиражирование нарративов, формирующих образ, самосознание и мировоззрение жертвы. Отрицательными последствиям виктимизации, позиционирования в качестве жертвы являются демотивация, дезориентация, упадок морального климата социума.
В современном мире процессы виктимизации наблюдаются как в научном дискурсе, реализуемой информационной политике и политике идентичности, так и в развитии самосознания жертвы на фоне аномии, вызываемой социальными потрясениями и сломом сложившихся ценностных установок.
Виктимизация идентичности может иметь разные мотивы и источники, среди которых: 1) действительно имеющий место «органичный» исторически обусловленный синдром жертвы1, описанный Иштваном Бибо и другими авторами [Бибо 2004]; 2) возможность извлекать личную выгоду, прибегая к популярной теме, как это происходит в США в сфере исследования разнообразных «меньшинств-жертв», отработка сложившейся мейнстримной повестки (например, движение Black Lives Matter , BLM ); 3) официальная политика нациестроительства и сплочения социума на базе негативной иден-тичности2, ресентимента3, разжигания вражды по отношению к значимым «другим», сознательной целенаправленной виктимизации собственных граждан; 4) психологические и информационно-идеологические диверсии внешнеполитических акторов, направленные на дезинтеграцию, дезориентацию, демотивацию социума. Обусловленная виктимизацией демотивация граждан и элит позволяет интенсифицировать воздействие, направленное на деиден-тифиацию социума, развитие в нем кризиса национально-государственной идентичности, восприимчивости к навязываемым извне моделям поведения и ценностным установкам, препятствующим национально-государственной консолидации.
Благодаря возможности эффективного нагнетания и использования эмоционального напряжения масс в контексте разнообразной деструктивной повестки, сплочение социума на базе виктимизации пользуется популярностью среди политиков. Создание позитивного, конструктивного, созидательного образа будущего всегда сложнее поиска «врагов», виновных в неудачах, пестования эмоционально будоражащих как реальных, так и мнимых исторических обид и манипулирования массовым сознанием на базе их конъюнктурной интерпретации.
Примерами из этого ряда являются: построенная на виктимизации политика идентичности Украины, особенно ярко проявившаяся в период правления президента В. Ющенко, активно продвигавшего в информационном пространстве тему голодомора; политика памяти Чехии, власти которой планомерно вытесняют из общественного сознания факты освобождения страны от нацизма Советской армией, односторонне и избирательно фиксируя внимание публики на событиях 1968 г. и страданиях «народа-жертвы» в период зависимости Чехословакии от СССР1, вымарывая из этого периода истории любые примеры позитивного созидательного развития.
Виктимизация научного дискурса проявляется в популярных на современном Западе постколониальных исследованиях ( postcolonial studies ). Так, например, в «постколониальной перспективе» рассматривается история литературы и национальная идентичность Польши [Skórczewski 2020]. При этом низведение развитых территориальных единиц Российской империи до положения построенных на рабовладении африканских колоний европейских империй является явным принижением реального статуса Царства Польского и виктимизацией истории и народа Польши. Применение к государствам, когда-либо входившим в состав континентальных территориально интегрированных империй, методологии и понятийного аппарата постколониальных исследований представляет в ряде случаев пример явной виктимизации, поскольку некоторые из зависимых народов континентальных империй (например, Российской империи) имели несоизмеримо больше прав, чем «имперообразу-ющий» народ. Так, например, в Польше с 1815 по 1832 г. действовала дарованная Александром I вполне либеральная конституция.
Рассмотрение бывших республик Советского Союза, а также государств, некогда входивших в состав Российской империи, в постколониальном дискурсе позволяет западным авторам искусственно уравнивать имперские практики колониальных империй и империй территориально интегрированного типа2.
Примером публичного выражения политики виктимизации идентичности является движение BLM, позиционирующее афроамериканцев и других представителей небелого населения США в качестве жертв. Сюда же можно отнести феминистическую повестку, рассматривающую женщин как жертв многовеко- вого угнетения, борьбу за права разнообразных меньшинств, акцентированную не на созидании и развитии, а на отрицании позитивных примеров прошлого, пестовании представлений о том, что «враги» обязаны загладить свою «вину».
Характерная особенность политики идентичности меньшинств в либеральных, придерживающихся мультикультурной повестки государствах коллективного Запада заключается в том, что если раньше главной задачей государственной политики идентичности считалась национально-государственная консолидация общества, преодоление кризисных явлений, связанных со столкновением и противоречиями идентичностей, то сегодня акцент делается на фактическом усугублении противоречий [Хантингтон 2004; Фукуяма 2019; Сургуладзе 2021]. Причем эта тенденция затрагивает вопросы не только коллективной, но и индивидуальной идентичности: если раньше считалось необходимым преодоление кризиса идентичности, достижение гармонизации личности, то сегодня наблюдается обратный процесс – поддержка невиданных прежде идентитарных девиаций и разнообразных форм психологического и психического нездоровья1.
Виктимизация как фактор воздействия на коллективное сознание активно применялась при формировании социогуманитарного поля Российской Федерации и постсоветского пространства. В постсоветских республиках механизмы виктимизации позволяли национальным элитам дистанцироваться от общего с Российской империей и СССР прошлого, подчеркивать собственную значимость и миссию в преодолении очерняемого общеимперского и общесоюзного прошлого, а внешнеполитическим акторам – разжигать межнациональную вражду и межгосударственные противоречия. Так, например, осуществлялась виктимизация памяти о героях Великой Отечественной войны в Грузии, заключавшаяся в развитии нарратива о том, что павшие в войне с нацизмом герои – жертвы советского «колониального» режима [Скотт 2019; Сургуладзе 2020]. В данном случае виктимная интерпретация истории позволяла режиму М. Саакашвили переформатировать потенциальные точки социокультурного сопряжения Грузии и России в повод для взаимного отчуждения и враждебности.
Подобная политика в отношении геополитических соперников понятна, имеет под собой жесткие реально политические основания, однако сознательная виктимизация собственного населения официальными властями во внутренней политике (явление, характерное для многих постсоветских государств) и процессе нациестроительства – простой, но стратегически опасный, деструктивный путь. Очевидно, что на индивидуальном уровне проявления виктимизации, синдрома жертвы, считаются опасными для психологического здоровья и продуктивной созидательной деятельности личности, соответствующие побочные последствия несет виктимизация коллективной идентичности и социуму.
Важно отметить, что параллельно процессам виктимизации на постсоветском пространстве наблюдались тенденции разжигания межнациональной и межконфессиональной розни за счет возвеличения национальностей: эмоции «народа-жертвы» прихотливо сочетались с развитием ультранационализма.
Десятилетиями западные институты и фонды планомерно формировали негативный информационный фон самовосприятия россиян. Виктимизация сознания российских граждан в постсоветский период многочисленными «некоммерческими» и «негосударственными» организациями, спонсировавшимися разнообразными западными структурами, проявлялась в том, что советский народ созидателей и победителей позиционировался как народ-неудачник, народ-жертва, как будто за годы существования Советского государства не было никаких позитивных достижений.
Отчасти данный процесс был закономерным итогом социальной аномии 1990-х гг., результатом неосуществившихся надежд великого мессианского проекта по социалистическому преобразованию мира, однако указанные закономерные тенденции сознательно усугублялись внешнеполитическими акторами посредством тенденциозной поддержки специфических и болезненных для российского общественного сознания тем научных исследований, социологических опросов, акцентировавших внимание на болезненных вопросах, по которым в обществе не сложился консенсус, научно-популярных и художественных произведений литературы, драматургии, кинематографа.
Важным направлением работы внешнеполитических акторов по разрушению общероссийской гражданской национальной идентичности стали проекты виктимизации, позиционирования в качестве жертвы народов многонационального и многоконфессионального Российского государства, в т.ч. виктимизации самого русского народа, которому предлагалось осудить собственную историю, отказаться от самобытного и самостоятельного пути развития, предать историческую память предков посредством принятия разрабатываемых на Западе нарративов. В ключе виктимизации подавались и подвиги Великой Отечественной войны, победы в которой якобы достигались только благодаря заградительным отрядам и репрессиям. Продвигалась тема репрессий, активно внедрялись в общественное сознание, научную и образовательную литературу специфические интерпретации «обобщенного тоталитаризма», позволявшие вне контекста исторических фактов и содержания политических доктрин уравнивать идеологию Советского Союза и разнообразных политических режимов фашистского типа, невзирая на важнейшие идеологические противоречия, без зазрения совести ставить знак равенства между нацизмом и мировым коммунистическим движением.
Многочисленные организации, признанные впоследствии в качестве нежелательных на территории Российской Федерации либо иноагентов, подвизались на поле виктимизации сознания россиян. Данной деятельностью активно занимались «Мемориал», Сахаровский центр, запомнившийся скандалами и говорящими названиями крупнейших выставочных проектов – «Осторожно, религия!» (2003), «Творчество художников после ГУЛАГа» (2003), «Иммунитет против иллюзий / Музей СССР» (2004). Ее следы носят и тенденциозные социологические опросы признанного иноагентом Левада-Центра, излюбленной темой которых были болезненные для россиян вопросы политики и истории, по которым до сих пор в российском обществе не сложился консенсус. Высокой активностью на социогуманитарном поле России и постсоветского пространства отличался фонд Дж. Сороса «Открытое общество».
Значительный массив научной литературы в заданных целями виктимизации идентичности российского общества тематических рамках был издан при содействии Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Центра Вудро Вильсона (Вашингтон)1, фонд изданий кото- рого, хранящийся в Ленинской библиотеке, по данным 2023 г., содержит 414 наименований монографий по важным идентитарным и социогуманитарным вопросам. Организация издавала Вестник Института Кеннана в России.
Значительная часть этой литературы представляет научный интерес, однако позитивное значение данной издательской деятельности не должно затемнять эффективность американской «мягкой силы» по внедрению в гуманитарное пространство России агентов влияния и либеральных, чуждых традиционным духовно-нравственным ценностям и опасных для ценностного суверенитета нарративов, в т.ч. связанных с виктимизацией.
Деятельность Института Кеннана вылилась в сотни проведенных мероприятий с общероссийским охватом (организация отчитывалась о 70 мероприятиях в год в среднем): семинаров, круглых столов и конференций по существенным вопросам обеспечения ценностного суверенитета России, мероприятий, посвященных политике памяти, интерпретации истории, нациестроительству, политике идентичности как на региональном, так и на федеральном уровне. Сотни преподавателей и ученых социогуманитарного профиля были вовлечены в деятельность института и схожих структур.
Стипендии института предназначались ученым социогуманитарного профиля, специалистам из сферы политики. Также институт распределял стипендии Центра Вудро Вильсона для изучения национальных и международных проблем, курировал выделение грантов по финансируемой Государственным департаментом США программе Фулбрайт–Кеннан для ученых и вузовских преподавателей, стипендии имени Галины Старовойтовой в области защиты прав человека и разрешения конфликтов, предоставлявшихся ученым и политикам, занимавшимся правозащитной тематикой, проблемами верховенства права, этнической, религиозной, расовой и культурной политики, вопросами государственного строительства, национализма и ксенофобии, свободы слова и толерантности.
Функционировало Российское товарищество выпускников Института перспективных российских исследований им. Дж. Кеннана, при помощи которого осуществлялось поддержание связи с участниками программ. Примечательно, что схожая схема мониторинга выпускников применялась повсеместно, например при реализации «цветных революций» в арабском мире, в частности в Египте [Сургуладзе 2015а], работе программы госдепартамента «Открытый мир» и излюбленной «пробирки по выращиванию оппозиционеров» для всего мира – программы Йельского университета Yale World Fellows [Сургуладзе 2015б].
Объектами воздействия подобных программ являлись учителя, журналисты, преподаватели вузов, студенты, политики, художники, юристы, предприниматели – преимущественно лица, формирующие информационную повестку, оказывающие либо имеющие потенциал, перспективные с точки зрения обретения влиятельных постов в будущем деятели сфер формирования общественного мнения, информационной повестки, принятия политических и иных социально значимых решений. С беззастенчивой откровенностью на сайте Британского совета размещалась информация о грантах и стажировках для перспективных и уже действующих политиков и журналистов. За 30 лет системных усилий коллективному Западу, прежде всего США, удалось воспитать сеть лидеров общественного мнения, в наиболее критический для России момент выступивших, как любят говорить американские президенты, на «правильной стороне истории».
Сотни российских исследователей прошли зарубежные стажировки, характеризовавшиеся «мягкой вербовкой» представителей российской социогума-нитарной элиты. Примечательно, что прошедшие через фильтр стажировок и подсаженные на зарубежные гранты исследователи оказались преимущественно нужны только в России, немногим из них удалось закрепиться на Западе. Данная особенность вполне закономерна, поскольку в качестве агентов долгосрочного «мягкого» влияния, деятельности по десуверенизации государства в социокультурной, гуманитарной, духовно-нравственной, ценностной сферах они были нужны именно в России.
В условиях многолетней идейно-политической индифферентности российских властей активность США и других западных государств на социогумани-тарном поле служила удобным и легальным прикрытием для сбора и анализа информации о регионах России, формирования сети прозападно настроенных представителей творческой и научной интеллигенции, поддержания выгодных коллективному Западу нарративов, а также общей повестки рассмотрения важнейших тем социокультурного и политического развития России.
Внимание западных аналитических и благотворительных структур к малочисленным народам российского Севера, национальностям и этноконфес-сиональным группам России невозможно объяснить исключительно научным интересом, доброй волей и бескорыстием. Слишком хорошо известно, насколько серьезную ставку внешнеполитические враги России всегда делали на развал государства изнутри, разжигание розни между представителями многонационального и многоконфессионального населения [Nahaylo, Swoboda 1990]. В очередной раз эта тенденция проявилась с началом специальной военной операции на Украине, когда полосы зарубежных изданий запестрели разнообразными сценариями и картами «деколонизации» России, расчленения страны по национальным и административным границам.
Проблема десуверенизации интеллигенции, научной и культурной номенклатуры, включая подробное описание «мягких» методов вербовки сторонников в Советском Союзе американскими агентами влияния на местах, а также сотрудниками специальных служб и подставных гуманитарно-просветительских организаций была описана в нашумевшем в свое время романе Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», вышедшем в виде журнальной публикации в 1969 г. [Кочетов 2021], сохраняющем, несмотря на прошедшие десятилетия, актуальность и сегодня.
Система внедрения «правильных людей» в российские академические и творческие круги интенсифицировалась в конце 1980–1990-х гг. с активным привлечением советских/российских граждан из провинции – амбициозных людей без связей в столицах, готовых безоглядно воспользоваться предоставленным иностранцами социальным лифтом. Антигосударственные акции представителей научной и творческой номенклатуры, сложившейся за постсоветское десятилетие при активном участии западных структур, уместно сравнить с уязвимостями нулевого дня1 в социогуманитарной сфере2.
Западные пресса и отрабатывающие антироссийскую повестку экспертноаналитические структуры годами усиленно продвигали нарративы о якобы идеократическом характере российского политического режима, «путинизме» как сложившейся системе автократического управления и мировоззрения с проведением неуместных параллелей между «путинизмом» и «сталинизмом». И это при том, что в реальности усилия властей по мировоззренческой консолидации граждан России постсоветского периода носили робкий, несистемный характер, о чем свидетельствует как анализ доктринальных документов государственного стратегического планирования, так и социологические опросы, из года в год фиксировавшие неудовлетворенность российских граждан состоянием сферы патриотического воспитания [Сургуладзе 2022: 499-523, 589-629].
Активно продвигаемые на Западе тезисы о русской «идеократии» выгодны создателям данного нарратива тем, что помогают враждебным России внешнеполитическим акторам и иностранным агентам выбивать бюджеты на борьбу с «российской угрозой», «русским мессианизмом» [Curanović 2022], нагнетать и поддерживать антироссийскую истерию в западных обществах.
Указанные нарративы активно транслировались иноагентами молодым поколениям россиян, которые в условиях многолетнего самоустранения государства из сферы активной информационной политики зачастую фактически не имели возможности знакомиться с альтернативным мнением, всесторонним объективным освещением реальной роли государства в формировании ценностной повестки общества и причинами происходящих социально-политических трансформаций.
Необоснованные утверждения об «идеократическом» характере политического режима в России отражают страхи коллективного Запада перед идейно-политической консолидацией и ростом мировоззренческой зрелости российского общества. Формирование параллельной информационной реальности востребовано коллективным Западом и хорошо финансируется. При этом право России на собственные ценности и миссию в мире отвергается. Избитыми стали утверждения, что «конструктивное, менее мессианское призвание Российского государства» предполагает «смерть русской идеи» [Kolesnikov 2023: 76]. То есть, прямо утверждается необходимость лишения России права на защиту национальных интересов, национальной безопасности в гуманитарной сфере, ценностного суверенитета и возможности самостоятельного независимого развития.
При этом примечателен тот факт, что на протяжении долгих лет западные акторы и иноагенты планомерно, системно и массированно внедряли в умы и сердца представителей российской творческой и научной номенклатуры1 идеи об «американской миссии», «мечте», «кредо», «исключительности». Так, например, в учебном плане известной кузницы кадров для инициируемых США «цветных революций» по всему миру программы Йельского университета Yale World Fellows2 присутствует курс «Американская исключительность и права человека» [Сургуладзе 2015б: 84]. Данное обстоятельство обращает на себя внимание в связи с тем, что системное освещение вопросов о миссии и ценностях России в современном мире, их закрепление в официальных документах государственного стратегического планирования и официаль- ной политике идентичности стало активно и системно реализовываться преимущественно после критического обострения международного положения, связанного с началом 24 февраля 2022 г. специальной военной операции на Украине.
Российское общество должно собственными силами разрешать сложные вопросы национально-государственного строительства и своего прошлого. Было бы интересно посмотреть на реакцию властей США, Великобритании и других западных государств, если бы МИД России, Россотрудничетво, Российская академия наук, Фонд Горчакова, Президентский фонд культурных инициатив и другие аналогичные структуры выделяли средства на конференции о геноциде американских индейцев, преступлениях Бельгии в Конго, а Британии – в Ирландии, проводили семинары и круглые столы подобной тематики в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, спонсировали фундаментальные исследования и издание монографий ученых об истреблении ирокезов, навахо, чероки, изучали быт и состояние прав человека в современных американских резервациях индейцев.
Однако представить подобное сложно. О том, что поле «мягкой силы» государства коллективного Запада предпочитают оставлять за собой и всемерно контролировать, не допуская никаких альтернативных точек зрения, свидетельствует судьба запрещенных в ЕС и США российских средств массовой информации (прежде всего Russia Today ) и закрытие институтов Конфуция. Источники «мягкой силы» России и Китая шельмуются в западных СМИ, научном и общественно-политическом дискурсе в качестве методов специально изобретенного западными экспертами в целях информационно-идеологического противоборства концепта «авторитарной» «острой силы» [Cardenal et al. 2017; Nye 2018], противопоставляемой «демократической» «мягкой силе» коллективного Запада.
Основной задачей виктимизации российского общества, агрессивного отрицания внешнеполитическими акторами и их иностранными агентами права Российской Федерации на ценностный суверенитет и самостоятельное духовное развитие является демотивация общества, внедрение в массовое сознание неуверенности в собственных силах, фрагментация и дезорганизация социума, стремление заставить его членов забыть о собственных военных, творческих и иных трудовых подвигах, сосредоточившись на однобокой виктимной оценке своей государственности, истории и культуры.
Спекуляции зарубежных институтов «мягкого» влияния на боли и страданиях народов России недопустимы, носят злонамеренный характер, прикрываемый мнимыми благими пожеланиями и поисками научной истины.
Для гармоничного поступательного развития нужна позитивная, созидательная повестка, атмосфера социального сплочения, а не фиксация общественного внимания на деструктивных противоречиях.
Список литературы Виктимизация идентичности: проблема деидентификации и десуверенизации социогуманитарной сферы
- Бибо И. 2004. О смысле европейского развития и другие работы. М.: Три квадрата. 477 с.
- Кочетов В.А. 2021. Чего же ты хочешь? М.: Вече. 480 с.
- Скотт Э. 2019. Свои чужаки: Грузинская диаспора и эволюция Советской империи. М.: Новое литературное обозрение. 384 с.
- Сургуладзе В.Ш. 2015а. Методология «демократических» переворотов: египетский пример. – Проблемы национальной стратегии. № 5(32). С. 260-267.
- Сургуладзе В.Ш. 2015б. Опыт западных научно-образовательных структур по формированию лояльных кадров из числа прошедших стажировку иностранцев. – Проблемы национальной стратегии. № 6(33) С. 82-99.
- Сургуладзе В.Ш. 2020. Американский взгляд на культурную и национальную политику Советского Союза. – Проблемы национальной стратегии. № 5(62). С. 185-198.
- Сургуладзе В.Ш. 2021. Политика идентичности в условиях кризиса либеральной демократии и идеологии мультикультурализма. – Проблемы национальной стратегии. № 1(64). С. 216-228.
- Сургуладзе В.Ш. 2022. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности. Трехчастная модель государственной политики: ценностный суверенитет, опорные точки идентичности, деятельностная концепция нации. М.: Аналитическая группа «С.Т.К.». 960 с.
- Фукуяма Ф. 2019. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия. М.: Альпина Паблишер. 256 с.
- Хантингтон С. 2004. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ; Транзиткнига. 635 с.
- Харрис Ш. 2016. Кибервойн@: Пятый театр военных действий. М.: Альпина нон-фикшн. 390 с.
- Cardenal J.P., Kucharczyk J., Mesežnikov G., Pleschová G. 2017. Sharp Power: Rising Authoritarian Influence. NED: International Forum for Democratic Studies. 156 p.
- Curanović A. 2022. The Sense of Mission in Russian Foreign Policy: Destined for Greatness! N.Y.: Routledge. xii + 248 p.
- Kolesnikov A. 2023. The End of the Russian Idea: What It Will Take to Break Putinism’s Grip. – Foreign Affairs. Vol. 102. No. 5. P. 60-761.
- Nahaylo B., Swoboda V. 1990. Soviet Disunion: A History of the Nationalities Problem in the USSR. N.Y.: The Free Press. xvi + 430 p.
- Nye J.S. Jr. How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence. – Foreign Affairs. 01.02.2018.
- Skórczewski D. 2020. Polish Literature and National Identity: A Postcolonial Perspective. Rochester: University of Rochester Press. x + 342 p.