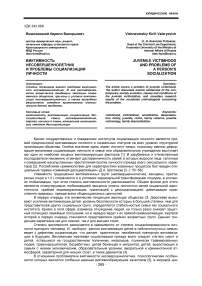Виктимность несовершеннолетних и проблемы социализации личности
Автор: Вишневецкий Кирилл Валерьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена важной проблеме виктимно-сти несовершеннолетних. В ней рассматриваются аномические тенденции эволюции современного общества, причины и условия виктимизации несовершеннолетних, а также приведены результаты западных криминологов относительно данной проблемы.
Виктимность, виктимизация, социализация, дес-социализация, семья, несовершеннолетний, жертва, насилие в семье, ювенальная виктимоло-гия, семейная дессоциализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14934682
IDR: 14934682 | УДК: 343.988
Текст научной статьи Виктимность несовершеннолетних и проблемы социализации личности
Кризис государственных и гражданских институтов социализации личности является прямой предпосылкой виктимизации личности и социальных статусов на всех уровнях структурной организации общества. Особое значение здесь имеет институт семьи, поскольку именно деформация механизма социализации личности в семье или образовательном учреждении выступает как один из наиболее мощных виктимизирующих факторов [1]. И зарубежные и отечественные исследователи неизменно отмечают дисгармоничность семей, в которых выросли лица, склонные к совершению насильственных преступлений против личности (прежде всего сексуального характера) [2]. Российскими криминологами для характеристики указанных процессов был введен специальный термин «семейная десоциализация» (Д.А. Шестаков) [3, с. 55-56].
Уязвимость традиционно виктимогенных групп (несовершеннолетние, женщины, престарелые люди и т.п.) сохраняется и в условиях кардинальной трансформации социума, в условиях глобализации, при этом степень виктимогенности увеличивается. Общим фоном для этого являются стимулируемые глобализацией процессы утраты личностью своей социальной идентичности, крайней индивидуализации, граничащей с десоциализацией, девальвации нравственно-правовых, прежде всего общесоциальных ценностей.
В первую очередь эти аномические тенденции эволюции общества (Э. Дюркгейм) вызывают усиление виктимизации детей, уровень безопасности которых в большей степени, чем для представителей других социальных групп, определяется стабильностью семьи как социального института. Кризис в этой сфере, взаимное отчуждение людей, не только резко снижает защитный потенциал семейный отношений, но и нередко ведет к их прямой криминализации, жертвой которой в первую очередь становятся представители крайних возрастных групп. Данная тенденция характерна как для низших, так и для высших страт.
Степень виктимности различается в зависимости от степени социализированности личности молодого человека. И, наоборот, ранняя виктимизация детей в неблагополучных семьях ведет к дефектам социализации, что делает, практически, неизбежной повторную виктимизацию в будущем. Виктимными жертвами социализации прежде всего следует считать сирот и детей, оставшихся на государственном попечении, инвалидов, психически травмированных людей, правонарушителей, безработных, детей беженцев и мигрантов, детей, вырастающих в семьях с низким экономическим, образовательным уровнем, аморальной и криминогенной атмосферой, характерной для низших страт, а также девиантов [4].
В отношении проблематики виктимности несовершеннолетних, психологические особенности которых являются особенно важным виктимообразующим качеством [5], в мировой кри- 265 - минологической литературе чаще всего и наиболее подробно рассматривают случаи сексуальных действий и жестокого обращение с детьми. В этом видят серьезную социальную проблему, в частности в Германии, где ежегодно от 600 до 1 000 детей бывают убиты своими родителями. По оценкам немецких экспертов, ежегодно можно встретить до 60 000 случаев жестокого обращения с детьми.
Особенно большое внимание уделяется вопросам виктимизации детей в семьях [6]. Согласно выводам американских виктимологов, основанных на анализе статистических данных, дети в возрасте до четырех лет имеют больше шансов быть убитыми в семье, чем более старшие дети. Младенцы и маленькие дети с большей вероятностью будут убиты их матерями, чем их отцами. В три раза больше число случаев сексуального насилия над девочками, чем над мальчиками.
Часто преступники в детстве сами являлись жертвами жестокого обращения, негативный опыт которого они впоследствии переносят на своих и чужих детей. Особенно угрожающим считается положение в так называемых проблемных семьях, характерной чертой которых являются безработица, эксцессивный алкоголизм, большое количество детей и плохие жилищные условия. «Повышенная виктимность несовершеннолетних определяется не только их психофизическими качествами, но и их социальными ролями, местом в системе социальных отношений, положением, которое они занимают в семье» [7, с. 70].
Семейное насилие над детьми имеет высокую латентность часто из-за страха детей перед родителями и уверенностью, что помощи ждать не от кого. Нередко трудно провести грань между насилием над ребенком и преступным пренебрежением, проявляемым в отношении беспомощного младенца [8]. Из чувства страха перед обидчиком или стыда перед друзьями и знакомыми, боязни осуждения или высмеивания, что типично для детской подростковой среды, ребенок не стремится к огласке происшедшего. Но внутренние переживания сказываются негативно на его развитии. Ученые утверждают, что латентные случаи преступного насилия над детьми, особенно сексуального, психологически более травматичны, чем случаи, в которых дети распознавались как жертвы.
Не без влияния виктимологических разработок жестокое обращение с детьми рассматривается не только как уголовно-правовая, но как социальная проблема [9]. Здесь значение предупредительной стратегии, принципов профилактики выступает на первый план относительно возможностей пресечения преступления. В случае сексуального насилия над детьми глубокие и долго сохраняющиеся нарушения в развитии личности фиксируются реже, чем у взрослых. Прежде всего, это значимо для нормально развитых, растущих в обычных социальных условиях детей.
В данном аспекте принято различать сексуальное злоупотребление детьми от насилия. Насилие обычно предполагает вовлечение ребенка в сексуальные отношения под действием силы, а также явных или скрытых угроз. Однако преступники могут использовать также и формы давления или влияния, чтобы достичь своей цели. Это может быть психологическая манипуляция, использование авторитета взрослого, зачастую непререкаемого для ребенка, внушение различных страхов и т.п.
Среди западных виктимологов господствующим является мнение о том, что уголовное судопроизводство, многочисленные беседы с ребенком о совершенном преступлении, могут приносить ему больший вред, чем само преступление, поскольку судебное разбирательство снова и снова вызывает в памяти процесс преступления и, кроме этого, ставит ребенка в психологически трудное положение относительно окружающих. Поэтому одним из приоритетных направлений становится исследование вопроса о возможной «вторичной» виктимизации ребенка в процессе судебного разбирательства дела о преступлениях сексуального характера [10, s. 29-31]. Отмечается, что здесь особенно необходима осторожность для предупреждения бестактного, грубого или пренебрежительного отношения, высказывания различных обвинений с их стороны, ибо отторжение жертвы ее ближайшим окружением, непонимание и осуждение с его стороны нередко способствуют ее десоциализации - уходу из дома, семьи, употреблению алкоголя, наркотиков, попадания в девиантную среду и, тем самым, повторной виктимизации.
В ювенальной виктимологии на Западе существует несколько теоретических моделей, объясняющих механизм детской виктимизации.
Наиболее распространенной является циклическая модель. Предполагается, что насилие по отношению к детям осуществляют преимущественно лица, сами бывшие в детстве жертвами насилия. Американский криминолог К. Дадж исследовал цикл развития агрессивных тенденций у ребенка, проанализировав социальные условия развития 309 четырехлетних детей в детских садах штата Теннеси и штата Индиана. Были взяты интервью у матерей, персонала, изучены психологические параметры детей. А также использовался метод прямого наблюдения. Было выявлено, что дети, которые подвергались физическому насилию в семье, были более агрессивны к другим детям: «индекс агрессии» для обиженного ребенка был на 93 %, чем для других детей. Ребенок, ставший жертвой насилия в семье, был менее способен обработать информацию и решить проблемы межличностного общения в толерантной форме. К. Дадж полагает, и как нам представляется, небезосновательно, что модель агрессивного поведения, которая воспроизводится в раннем детстве, может экстраполировать на будущие действия агрессии, в том числе и в форме преступления против общества [11]. Виктимизация ребенка, таким образом, детерминирует криминализацию взрослого. Соответственно, задача виктимологической профилактики видится в том, чтобы разорвать этот порочный круг.
Далее можно назвать психопатологическую модель. Здесь подчеркивается роль характеристик самого молодого виктима в совершении насилия. Эта модель включает три особых подхода к проблеме жестокого обращения с детьми, которые условно могут быть охарактеризованы как: 1) психодинамическая модель; 2) модель психического заболевания и 3) модель черт характера.
Следующая модель разрабатывается в рамках традиционного криминологического интеракционизма. Ее создатели (Х. Мартин) выделяют три основных фактора жестокого обращения с детьми: 1) роль ребенка, 2) случайные события и 3) структура дисфункционального семейства [12].
Одной из наиболее перспективных, на наш взгляд, является социологокультурологическая модель (Н. Полянски и др.), которая рассматривает жестокое обращение с детьми в результате напряжений в обществе, которые являются первичными причинами злоупотребления. К ней могут быть отнесены следующие частные виды социо-виктимологических моделей: 1) модель социального напряжения; 2) модель социального научения; 3) социальнопсихологическая модель; и 4) психо-социологическая системная модель [13].
Первая модель исходит из суждения о том, что такие социальные факторы, как фактор недостатка образования, бедности, безработицы, профессиональной деятельности, связанной со стрессами, обуславливают жестокое обращение с детьми. Неспособность родителя или опекуна разрешать внешние проблемы приводит к агрессивному поведению в отношении ребенка. Модель социального научения подчеркивает неадекватность навыков воспитания родителей структуре социализирующих факторов. Социально-психологическая модель предполагает, что возникающее в семье психологическое напряжение проистекает из множества социальных и психологических факторов, включая семейные ссоры, безработицу, слишком большое число детей, включая нежелательных. Все эти факторы вызывают напряжение, которое заставляет индивидуума агрессивно реагировать на ребенка. Психо-социологическая системная модель описывает структуру взаимодействий в семье в рамках системного подхода. Если семья представляет собой разбалансированную систему, то негативное отношение к ребенку становится почти неизбежным [14, с. 9-11].
В России ситуация, сложившаяся в области детской преступности, когда ежегодно на скамье подсудимых оказывается около 75 тыс. подростков, стала прямым итогом превращения семейной десоциализации в массовое явление. Около 50 тыс. детей убегают из дома, чтобы избежать физического или сексуального насилия в своей семье. 3 тыс. несовершеннолетних погибают в результате самоубийств. Около 2 тыс. детей предпринимают попытки убить своих родителей. Среди подростков, совершающих преступления, 75-80 % являются рецидивистами [15, с. 371].
Современная ситуация, сложившаяся в условиях глобализации, такова, что семья как социализирующий институт испытывает объективное давление со стороны новых социальных реалий, к которым она оказалась не готова. Хотя позиции семьи достаточно сильны, но отмечаются разрушительные тенденции социума. Интересен тот факт, что это касается не только так называемых неблагополучных семей, но и угрожает этому социальному институту в целом [16, с. 260]. В большинстве современных семей дети растут в ситуации эмоциональной отчужденности со стороны родителей. На них обращают внимание только затем, чтобы подчеркнуть их «неудачность», «нежеланность». В случаях, когда преступники вырастают во внешне благополучных семьях, отмечено, что родители часто уделяют много внимания интеллектуальному и физическому развитию ребенка, оставляя без внимания эмоциональную сферу.
Кризис семьи в условиях глобализации отчетливо проявляется в том обстоятельстве, на которое нередко обращают внимание криминологи. А именно: в выборе жертв преступлений у некоторых преступников прослеживается структура семьи, в которой они выросли [17]. Так, если совершаются изнасилования малолетних детей, то преступник, вероятно, рос в семье, где был старшим ребенком. Непосредственные эмоциональные контакты имел только с младшим братом или сестрой (разница в возрасте может быть минимальной), которые, в свою очередь, получали больше внимания со стороны родителей. Если жертвами преступлений являются ровесницы или женщины старшего возраста, то в этом случае отмечаются мотивы мести сестре (старшей или близкой по возрасту), матери. Криминологами была выявлена и зависимость преступлений от характера отношений в семье: у корыстных преступников грубость в домашнем общении наблюдается в несколько раз реже, чем у насильственных, при этом семейные конфликты часто связаны с материальными притязаниями друг к другу [18, с. 56-57].
В исследованиях отечественных криминологов, посвященных структуре преступлений против несовершеннолетних, также было установлено, что наибольший удельный (50 %) составляют потерпевшие от преступлений против половой неприкосновенности, 26 % - потерпевшие от преступлений против жизни и здоровья, 16 % - против семьи и несовершеннолетних, 4,5 % - против собственности и 3,5 % - против общественной безопасности. Таким образом, подавляющее большинство преступлений против несовершеннолетних составляют насильственные преступления [19, с. 8].
Дети с запаздывающей или деформированной социализацией нередко являются высоковик-тимными в отношении насильственных преступлений, а также преступлений сексуального характера. П.Ю. Утков отмечает, что риск совращения и развращения совершенно неодинаков для всех детей: «Он больше для внушаемых и неустойчивых детей, воспитывающихся в условиях недостатка заботы, эмоциональной депривации; невротичных или характерологически акцентуированных детей, которые затевают сексуально окрашенные игры со взрослыми, а потом наблюдают за произведенным впечатлением; побуждаемых примером уже соблазненных сверстников; любопытных, но не наученных правильному поведению со взрослыми и чужими людьми» [20, с. 16].
Им же выделяются условия социализации, которые приводят к такого рода результатам. Как правило, виктимными в отношении насильственных и сексуальных преступлений являются те дети, которые:
-
- выросли в социально изолированных семьях, где границы поведения членов семьи не были четко обозначены (исследования показали очень большой процент ненормальных сексуальных отношений в семьях, живущих в отдельных районах);
-
- уяснили неправильную модель сексуального поведения;
-
- взяли на себя роли взрослых в семье (мать страдает алкоголизмом и поэтому не может выполнять свой материнский долг);
-
- плохо обеспеченные и беспризорные (это заставляет ребенка искать удовлетворения своих материальных нужд, сближаясь с насильником);
-
- имеющие плохие отношения с родителями или опекунами, что толкает ребенка на поиск любви и ласки неподходящим образом;
-
- однажды подвергшиеся насилию, они могут сами провоцировать его в дальнейшем, потому что не уяснили надлежащих моделей поведения [21].
В дополнение к сказанному следует отметить, что отношения по нормальному развитию несовершеннолетних охраняются в соответствии со ст. 38 Конституции РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральными законами от 03.07.98 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и от 21.05.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Некоторые разъяснения по применению данной нормы УК РФ даны в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000 № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних».
Ведущей детерминантой насильственных преступлений против личности является специфическая диспозиция виновного к включению в отношения жесткой зависимости от определенных внешних объектов (как материальных, так и идеальных) или собственных психических состояний. Такие объекты или состояния обладают субъективной ценностью, соизмеримой или превышающей ценность жизни человека и при определенных условиях могут выступать в качестве реальной побудительной силы к совершению тяжких преступлений против личности. Условия образования криминальной ситуации, актуализирующие указанную диспозицию, часто носят неосознаваемый со стороны виновного характера, в силу чего оказываются неуправляемыми для него. Если представить преступление как поведение преступника, в котором объективируется своеобразное сочетание особенностей его личности и конкретной жизненной ситуации, то виктимизация тяжкой насильственной преступности со своей стороны предполагает проявление жертвой особенностей ее личности в той же конкретной жизненной ситуации и определенным образом оцененных преступников. Но жертва при этом выступает как элемент этой ситуации и именно так оценивается преступником.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что понимание социализации должно быть целостным, комплексным, объединяющим объективные влияния социальной среды и субъективные усилия индивида. Молодой человек в процессе социализации сначала познает и усваивает нормы и культурные ценности общества, а затем преобразовывает их в свои собственные ценности, интересы, потребности. Однако не всегда сформированное человеком становится позитивным. При этом негативное может стать определяющим в личности человека, привести к девиантному поведению, ведущему как к виктимизации, так и к криминализации поведения несовершеннолетнего.
Ссылки и примечания:
-
1. См. подробнее: Руденский Е.В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы: генезис, феноменология, онтология. Теоретико-экспериментальное основание социально-педагогической виктимо-логии образования. Кемерово, 2003 ; Его же. Экспериментально-психологические основы социально
педагогической виктимологии. Новосибирск, 2000 ; Ср.: Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12.
-
2. Crimes Against Children: Child Abuse and Neglect. Philadelphia, 2000. P. 23–38 ; Ryan W. Blaming the Victim. New York, 1976. P. 63–88. См. также: Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве. М., 1983.
-
3. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003.
-
4. См.: Мудрик А.В. Социализация и смутное время. М., 1991.
-
5. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45 ; см. также: Забрянский Г.И. Изучение и предупрежде
ние преступности несовершеннолетних. Краснодар, 1979 ; Григович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком. Общие вопросы и физическое насилие. Петрозаводск, 2001 ; Мэнделл Дж.Г., Дамон Л. Групповая психотерапевтическая работа с детьми, пережившими сексуальное насилие. М., 1998 ; Сафонова Т., Цымбал Е.И., Иванова Н.А., Демьяненко И.И. Жестокое обращение с детьми. M., 1993 ; Статмэн П. Безопасность вашего ребенка. СПб., 1996 ; Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими насилие. М., 2000 ; Утков П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004 ; Шапиро Б.Ю., Сидоренкова Т.А., Либоракина М.И. Социальные работники за безопасность в семье. М., 1999.
-
6. Wallace H. Victimology: legal, psychological, and social perspectives. Boston, 1998. P. 175. Результаты исследования российских виктимологов позволяют сделать вывод о том, что случаи внутрисемейного физического насилия составляют примерно одну треть от случаев насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, следует учитывать, что семейное насилие над детьми имеет высокую латентность часто из-за страха детей перед родителями и уверенностью, что помощи ждать не от кого (Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.,, 2003).
-
7. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000.
-
8. Эти вопросы специально исследовались в следующем издании: Crimes Against Children: Child Abuse and Neglect. Philadelphia, 2000.
-
9. Cain М. Orientalism, Occidentalism and the Sociology of Crime // Victimology. N.Y., 1994. Р. 82–96.
-
10. Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. München, 1987.
-
11. См.: Dodge K.A., Bates J.E., Pettit G.S. Mechanisms in the Cycle of Violence // Science. 1990. № 3 ; Ср.: Ривман Д.В.,
Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. С. 70–71. Интересные данные о зависимости между возрастом потерпев
шего и мотивацией его провокационного поведения приводятся и анализируются в работе Э.Л. Сидоренко (Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб., 2003. С. 57).
-
12. Martin H. P. The Abused Child. Cambridge, 1976.
-
13. Polansky N., Chambers M., Buttenwieser E. An Anatomy of Child Neglect. Chicago, 1981.
-
14. Ср.: Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Ставрополь, 2002.
-
15. Ювенальная юстиция и профилактика правонарушений. СПб., 1999.
-
16. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи. СПб., 2003.
-
17. См.: Шестаков Д.А. Криминогенная семья и формирование агрессивности // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1988. С. 63–70.
-
18. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. Д.А. Шестакова.
-
19. Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: автореф.
-
20. Утков П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004.
-
21. Там же.
СПб., 2003.
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003.
Список литературы Виктимность несовершеннолетних и проблемы социализации личности
- Руденский Е.В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы: генезис, феноменология, онтология. Теоретико-экспериментальное основание социально-педагогической виктимо-логии образования. Кемерово, 2003
- Руденский Е.В. Экспериментально-психологические основы социальнопедагогической виктимологии. Новосибирск, 2000
- Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: дис.. канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12.
- Crimes Against Children: Child Abuse and Neglect. Philadelphia, 2000. P. 23-38
- Ryan W. Blaming the Victim. New York, 1976. P. 63-88.
- Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве. М., 1983.
- Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии/под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003.
- Мудрик А.В. Социализация и смутное время. М., 1991.
- Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45
- Забрянский Г.И. Изучение и предупреждение преступности несовершеннолетних. Краснодар, 1979
- Григович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком. Общие вопросы и физическое насилие. Петрозаводск, 2001
- Мэнделл Дж.Г., Дамон Л. Групповая психотерапевтическая работа с детьми, пережившими сексуальное насилие. М., 1998
- Сафонова Т., Цымбал Е.И., Иванова Н.А., Демьяненко И.И. Жестокое обращение с детьми. M., 1993
- Статмэн П. Безопасность вашего ребенка. СПб., 1996
- Пчелинцева Е.В. Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками, пережившими насилие. М., 2000
- Утков П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004
- Шапиро Б.Ю., Сидоренкова Т.А., Либоракина М.И. Социальные работники за безопасность в семье. М., 1999.
- Wallace H. Victimology: legal, psychological, and social perspectives. Boston, 1998. P. 175.
- Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2003
- Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000.
- Crimes Against Children: Child Abuse and Neglect. Philadelphia, 2000.
- Cain М. Orientalism, Occidentalism and the Sociology of Crime//Victimology. N.Y., 1994. Р. 82-96.
- Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. Munchen, 1987.
- Dodge K.A., Bates J.E., Pettit G.S. Mechanisms in the Cycle of Violence//Science. 1990. № 3
- Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. С. 70-71.
- Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб., 2003. С. 57
- Martin H. P. The Abused Child. Cambridge, 1976.
- Polansky N., Chambers M., Buttenwieser E. An Anatomy of Child Neglect. Chicago, 1981.
- Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Ставрополь, 2002.
- Ювенальная юстиция и профилактика правонарушений. СПб., 1999.
- Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи. СПб., 2003.
- Шестаков Д.А. Криминогенная семья и формирование агрессивности//Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1988. С. 63-70.
- Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии/под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003.
- Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: автореф. дисс.. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Утков П.Ю. Педагогические аспекты детской виктимологии. Мурманск, 2004.