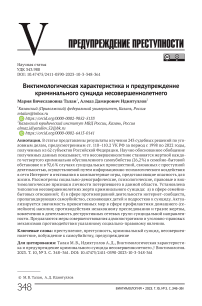Виктимологическая характеристика и предупреждение криминального суицида несовершеннолетнего
Автор: Талан М.В., Идиятуллов А.Д.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Предупреждение преступности
Статья в выпуске: 3 т.10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты изучения 243 судебных решений по уголовным делам, предусмотренным ст. 110-110.2 УК РФ за период с 1998 по 2022 годы, полученных из 62 субъектов Российской Федерации. Научно обоснованное обобщение полученных данных показывает, что несовершеннолетние становятся жертвой каждого четвертого криминально обусловленного самоубийства (26,2 %) в семейно-бытовой обстановке и в 92,6 % случаях суицидальных происшествий, связанных с преступной деятельностью, осуществляемой путем информационно-психологического воздействия в сети Интернет и втягивания в компьютерные игры, представляющие опасность для жизни. Рассмотрены социально-демографические, психологические, правовые и виктимологические признаки личности потерпевшего в данной области. Установлена типология несовершеннолетних жертв криминального суицида: а) в сфере семейно-бытовых отношений; б) в сфере противоправной деятельности интернет-сообществ, пропагандирующих самоубийство, склоняющих детей и подростков к суициду. Актуализируется значимость превентивных мер в сфере профилактики домашнего (семейного) насилия; противодействия незаконному преследованию и травле жертвы, вовлечению в деятельность деструктивных сетевых групп суицидальной направленности. Предлагаются меры совершенствования административно и уголовно-правовых механизмов противодействия указанному социально-правовому явлению.
Преступление, преступность, криминальный суицид, несовершеннолетние, побуждение к самоубийству, предупреждение
Короткий адрес: https://sciup.org/14129349
IDR: 14129349 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10-3-348-361
Текст научной статьи Виктимологическая характеристика и предупреждение криминального суицида несовершеннолетнего
Самоубийство является серьезной проблемой, затрагивающей все страны, континенты и все мировое сообщество. Суицид — причина каждой сотой смерти на Земле, от которой погибает больше людей, чем в результате насильственных проявлений и всех военных конфликтов вместе взятых [4, с. 5]. Ситуация в этой сфере настолько тревожная, что в 38 государствах были приняты национальные стратегии по предотвращению анализируемого явления. Несмотря на снижение среднего показателя количества самоубийств в мире на 36 % за 20 лет, динамика распространенности рассматриваемого явления среди отдельных возрастных групп, по-прежнему представляет значительную угрозу безопасности общества. В частности, в группу риска подпадает категория несовершеннолетних1.
Отмечается, что в возрастной группе 15–19 лет самоубийство— вторая причина смерти среди девушек (после осложнений беременности или родов) и третья причина смерти среди юношей (после ДТП и межличностного насилия)1. Суицид ежегодно становится третьей основной причиной смерти более 1,2 млн подростков в мире2. В работах отдельных авторов делается акцент на процессах омоложения анализируемого явления [6, с. 3]. Некоторые ученые обращают внимание на информатизацию, ускорение темпов жизни, трансформацию общественных отношений в наступившей цифровой эпохе, обусловивших появление новых форм аддикций, культурными и нравственными различиями между различными поколениями людей, затрудняющие их взаимоотношения друг с другом, что также находит отражение в неблагополучной суицидальной обстановке в обществе [8, с. 326].
В Российской Федерации, несмотря на сохраняющуюся положительную динамику снижения самоубийства с 2001 года (-72,6 %)1, указанное явление продолжает оставаться актуальной проблемой в детско-подростковой среде. Ученые полагают, что российские показатели суицидальных происшествий среди несовершеннолетних превышают общемировые показатели в три раза [7, с. 3]. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)4.
Отмечается, что суицидальные мысли (идеи) выявлены у 45 % российских девушек и у 27 % юношей [12, с. 9]. Исследователи указывают на увеличение количества самоубийств, имеющих внешние признаки несчастных случаев (передозировка лекарствами, производственная травма, падение с высоты) [1, с. 90]. Масштабы подростковых суицидов в России могут быть гораздо выше, поскольку, латентными оказываются каждый пятый суицид среди девушек и каждый седьмой— у юношей [12, с. 3].
Неблагоприятные тенденции в рассматриваемой сфере подтверждаются имеющимися статистическими сведениями: смертность от самоубийства среди несовершеннолетних в России в период с 2020 по 2021 гг. выросло на 37,4 %. За три года число суицидальных попыток среди данной возрастной категории увеличилось на 13 %, а повторных случаев на 92,5 %. По мнению экспертов, причины сложившейся ситуации связаны с отсутствием полноценной профилактики рассматриваемого явления в учебных заведениях, в семейно-бытовой сфере, дефицитом квалифицированной психологической помощи5.
Особенное внимание правоохранительных органов и общественности уделяется суицидальным происшествиям среди несовершеннолетних, ставших результатом предшествующих преступных действий других лиц. Сложившаяся криминальная ситуация, связанная с распространением детских самоубийств в 2016–2017 гг. вызвало незамедлительную реакцию законодателя в виде установления новых уголовно-правовых механизмов противодействия этому явлению. Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ в УК были введены новые квалифицирующие признаки побуждения к самоубийству, в том числе, направленные на защиту жизни и здоровья несовершеннолетних6.
Следует заметить, что основная масса суицидальных происшествий среди детей и подростков, обычно носит бытовой характер (сложная психологическая обстановка в семье, неразделенная любовь, затяжное депрессивное состояние, употребление психоактивных веществ, плохая успеваемость в школе и проч. (92 %)) [12, с. 76].
Материалы и методы исследования
Рассматриваемую проблему осветили в отдельных трудах отечественные ученые-криминалисты Ю. М. Антонян, А. Н. Бастрыкин, Г. Н. Борзенков, Я. И. Гилинский, А. И. Долгова, М. П. Клеймёнов, И. М. Клеймёнов, Н. Е. Крылова, А. П. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, В. М. Лебедев, В. В. Лунеев, В. Д. Малков, И. М. Мацкевич, А. В. Наумов, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло, А. И. Рарог, В. Б. Хатуев, А. И. Чучаев, В. Е. Эминов и др.
Изучаемое социально-правовое явление стало объектом диссертационных исследований Е. А. Кот1, М. Ю. Пучниной2 [7] и А. Н. Старжинской3. Несмотря на всю значимость этих работ, в них не решен целый комплекс вопросов, касающихся социальнодемографических, нравственно-психологических, правовых, криминологических, а также виктимологических характеристик несовершеннолетних жертв криминального суицида, что делает практически значимым, актуальным и своевременным научное исследование указанной проблемы в условиях существующей потребности в научно обоснованных рекомендациях.
Анализ статистических данных за 2021 г. показывает, что число жертв, погибших в результате преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ составляет небольшое значение 2,7 % (417 случаев)4 в общей структуре всех зарегистрированных суицидов в России в указанное время (15 615 случаев)5. Однако эксперты считают, что количество таких потерпевших гораздо больше, не находящее по разным причинам отражения в государственной статистике [7, с. 12, 71].
Методологию исследования составили такие методы, как метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также методы экспертных оценок, наблюдения, статистического анализа данных о преступности и жертвах преступлений, метод обобщения и гипотезы.
Описание исследования
В рамках настоящего исследования проанализированы 243 решения судов основного и среднего звена 62 субъектов Российской Федерации за период с 1998 по 2022 годы по уголовным делам, предусмотренным ст. 110–110.2 УК РФ. Анализ их содержания показал, что дети и подростки по причине социальной уязвимости, становятся жертвами каждого четвертого криминально обусловленного самоубийства (26,2 %) в семейно-бытовой сфере и в 92,6 % случаях суицидальных происшествий, связанных с противоправной деятельностью в сети Интернет, осуществляемой путем информационно-психологического воздействия, преследования и травли. Это согласуется и с другими исследованиями. В работе И. С. Гвоздевой и ее соавторов приводятся сведения, согласно которым анализируемые показатели составляют 26,6 % [3, с. 118].
Изучение самоубийств, спровоцированных внешним воздействием среди исследуемой возрастной категории, и использование обобщенных сведений о подобных лицах предоставило возможность выявить две основные группы потерпевших:
-
а) наиболее распространенная группа, включающая жертв криминально обусловленного самоубийства в сфере семейнобытовых отношений;
-
б) лица, ставшие жертвой преступной деятельности, осуществляемой путем распространения суицидальной идеологии в сети «Интернет», склонения к суициду путем негативного информационно-психологического воздействия и втягивания в компьютерные игры, представляющие опасность для жизни и здоровья.
При этом указанные группы личности жертв криминального суицида обнаруживают схожие черты, касаемо виктимологи-ческих свойств, признаков, в связи с чем, для удобства изучения они будут объединены и рассматриваться как единая типология личности несовершеннолетнего потерпевшего.
В настоящее время, повышенное внимание уделяется проблеме изучения личности и поведения жертв преступлений, их роли в зарождении и развитии криминальной ситуации. В научной литературе можно обнаружить широкое многообразие классификаций потерпевшего от преступных деяний. Однако, все они включают следующие характеристики: социально-демографические (пол, возраст, состояние здоровья образование и др.), нравственно-психологические (ценностные ориентации, взгляды, интересы, установки), социально-ролевые (социальные позиции, статусы, роли, функции), а также криминологические (взаимоотношения с преступником, судимость, мотивация) [2, с. 70].
Полученные и обработанные нами статистические данные показывают: вик-тимологический портрет личности несовершеннолетнего с суицидальным поведением, подлежащий уголовно-правовой охране, как правило, представляет лицо женского пола (73 %), в возрасте 12–15 (51,9 %) или 16–17 лет (40,7 %), гражданина Российской Федерации (98 %), с начальным основным общим образованием (89 %), обучающегося в среднем общеобразовательном учебном заведении (96 %). По данным исследования И. С. Гвоздевой и ее соавторов: «из всего количества несовершеннолетних жертв криминального суицида лица женского пола составили 63,6 %, мужского— 36,4 %» [3, с. 131].
По мнению экспертов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), факторами, обуславливающими суицидальное поведение несовершеннолетних, являются: генетическая предрасположенность, психические и соматические заболевания, злоупотребление психоактивными веществами, социальные проблемы (насилие в семье, материальное неблагополучие, безработица) и т. д. [12, с. 2].
В исследовании К. В. Сыроквашиной и ее соавторов детерминирующими причинами суицидальной активности данной возрастной категории определены негативный опыт конфликтных взаимоотношений с родственниками (41,48 %), со сверстниками (22,16 %) с преподавателями (4,55 %); алкоголизм родителей (21,51 %), самоубийства среди близких родственников (16,28 %), наследуемые психологические патологии (5,2 %) [9, с. 75–79].
В подавляющем большинстве случаев, основной причиной криминальной смертности среди несовершеннолетних, связанных с умышленным лишением себя жизни, становятся насильственные проявления в семейно-бытовой сфере. Не случайно, обвиняемыми по уголовным делам, предусмотренным ст. 110–110.2 УК РФ, как правило, выступают родные родители (45 %), отчим (мачеха) (15 %), прочие родственники (5 %), знакомые (17 %) и малознакомые лица (18 %). Близкие по содержанию результаты приводятся в исследовании И. С. Гвоздевой и ее соавторов: виновными лицами оказываются несовершеннолетние (28,9 %), отец (29,1 %), мать (21,1 %), сожитель матери (14,4 %), опекун (6,5 %) [3, с. 131].
В зарубежных исследованиях отмечается, что 35 % суицидентов из числа взрослых в детском возрасте зачастую подвергались жестокому обращению со стороны референтной группы лиц (родителей, опекунов, родственников). Это включало в себя сексуальное, эмоциональное и физическое насилие. Иными негативными факторами становились: развод родителей, проживание вместе с членами семьи, систематически нарушающими закон, злоупотребляющими алкоголем, наркотиками, психически больными лицами. Неблагоприятные воспоминания, вызванные пережитыми травмирующими событиями о семейно-бытовом насилии, таким образом, имеют серьезные долгосрочные последствия, негативно воздействуя на психическое здоровье несовершеннолетних, а также, обусловливая высокий риск суицидального поведения через многие годы жизни [13 с. 38].
Антиобщественный образ жизни близких лиц, а также, угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства, к которым в течение длительного времени подвергается несовершеннолетний, создают для него невыносимые условия совместного проживания, приводя его в морально подавленное состояние и провоцируя неоднократные суицидальные попытки.
Повышенная виктимность потерпевших от рассматриваемых деяний, в том числе, обусловливается совместным проживанием с виновным лицом в одном населенном пункте (94 %) и в одном жилище (у 37,1 % юношей, 84,5 % —девушек). Не случайно место проживания жертвы криминального суицида в большинстве случаев как в городской (81,5 %), так и в сельской местности (79,7 %) по трагическому стечению обстоятельств оказывается местом, где в отношении нее осуществляется преступное посягательство обвиняемым. Время совершения преступления: дневное (33,2 %) и вечернее (41,6 %) соответствует, таким образом, совместному одномоментному нахождению этих лиц в жилище.
По этой же причине, несовершеннолетний потерпевший, как правило, совершает самоубийство по месту жительства в городской (77,6 %) и в сельской (53,9 %) местности в дневное (33,2 %) и в вечернее время суток (37,4 %). Кроме того, для подобной цели могут использоваться нежилые придомовые постройки (сарай, баня, душевая), чердаки и подвалы домов, дворы, улицы, лесопосадки, железнодорожные пути, крыши зданий, мосты, открытые водоемы, колодцы, высотные конструкции, строящиеся здания и проч.
Согласно проведенному исследованию, в качестве способов суицида доминируют повешение, удушение (41 %), передозировка лекарственными препаратами, самоотравление химическими веществами, ядами (20 %), падение с высоты (12 %), самопо-вреждение колюще-режущими предметами (21 %), движущимися объектами (железнодорожным транспортом) (3 %), огнестрельным оружием (1 %), а также самоутопление (2 %) [9, с. 75–79].
В каждом пятом случае, подобные лица оставляют предсмертную записку (в том числе в сети Интернет) (21 %). В специальной литературе отмечается, что содержимое личных страниц в социальных сетях у 20,45 % покончивших с собой детей и подростков включало материалы с информацией суицидального и иного противоправного характера (видеозаписи и фотографии самоубийств, членовредительства, убийств) [9, с. 75–79]. По мнению Е. Ю. Шкитырь, «наличие подобного деструктивного контента играет значительную роль в формировании психических расстройств и в повышении суицидального риска у потерпевших» [11, с. 4].
Криминальная смертность несовершеннолетних от самоубийства — жертв насильственных проявлений в семейнобытовой сфере— составляет 49 %, в результате противоправной деятельности в сети Интернет, осуществляемой путем информационно-психологического воздействия, преследования, травли и склонения к суициду— 7,4 %. В исследовании И. С. Гвоздевой и ее соавторов число погибших несовершеннолетних в результате побуждения их к суициду составляет еще большее значение 83,3 %, от общего количества потерпевших— 19,6 % [3, с. 130].
Потерпевший с целью самоубийства в большом количестве употребляет широко распространенные в быту лекарственные препараты такие, как «Анальгин», «Вало-сердин», «Глибенкламид», «Дротаверин», «Йодомарин», «Парацетамол», «Рибоксин», «Феназепам» «Цитрамон», которые в отсутствие своевременной медицинской помощи нередко приводят к трагическому исходу.
Поэтому ограничение доступа к средствам совершения самоубийства (огнестрельному оружию, медикаментам, ядохимикатам, высотным зданиям и сооружениям, железнодорожным путям) является одной из важнейших мер, способствующей нейтрализации риска суицидального поведения подростков1.
Насильственные проявления и преступные посягательства, находящиеся в причинно-следственной связи с суицидальным поведением детей и подростков в семейно-бытовой сфере, включают в себя широкий круг деяний: нанесение побоев, истязание (ст. 116, 116.1, 117 УК РФ), умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ); угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); похищение или незаконное лишение свободы (ст. 126, 127 УК РФ); совершение половых преступлений (ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ); нарушение конституционных прав, в том числе, неприкосновенности частной жизни, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений (ст. 137, 138, 139 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); хищение собственности, в том числе, его вымогательство (ст. 158, 159, 161, 162, 163 УК РФ); повреждение (уничтожение) имущества (ст. 167 УК РФ); клевету (ст. 128.1 УК РФ); оскорбление; распространение фото-видеоизображений интимного содержания с участием потерпевшего; лишение пищи, крова, медицинской помощи, полноценного отдыха; применение непедагогических методов воспитания; ограничение общения; создание антисанитарных условий для проживания; принуждение к тяжелому физическому труду.
Так, «в результате противоправных действий С. по систематическому унижению человеческого достоинства малолетнего О., выразившегося в совершении насильственных действий сексуального характера — мужеложства, у последнего развилось состояние сильной психологической напряженности (стресса), которое обусловило восприятию им ситуации как окончательно безвыходной, привело к истощению совладеющего потенциала и принятию решения о самоубийстве»2.
Преступления, связанные с побуждением несовершеннолетних к суициду и совершённые в сети Интернет могут осуществляться путем кибербуллинга, путем вовлечения в противоправную деятельность сетевых групп (сообществ), пропагандирующих аутоагрессивное поведение, склоняющих к самоубийству, членовредительству под предлогом выполнения игровых заданий, а также распространения порочащих сведений, вымогательства денежных средств т. д.
Повышенные показатели социальной виктимности имеют дети и подростки в ситуациях, связанных с насильственным разрешением конфликтов в семье. В таких случаях, несовершеннолетние, зачастую склонны к крайней эмоциональной реакции на переживаемую конфликтную ситуацию в семье в форме либо депрессии, либо желания возмездия, нередко реализуемой в форме суицидальной попытки.
Самоубийства среди детей, как показывает исследование, взаимосвязаны с различными видами агрессивного поведения, травлей, унижением (буллинг) в учебных заведениях и в сети Интернет (кибербуллинг). Н. Марр (N. Marr) и Т. Филд (T. Field), исследовавшие указанные явления, впервые ввели в научный оборот термин «бул-лицид» — суицид несовершеннолетних, вызванный издевательствами, преследованием, внешним негативным психологическим воздействием со стороны третьих лиц [14, с. 19].
Важнейшим проявлением повышенной виктимности детей и подростков, ставших жертвой преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ является негативное воздействие взрослых на их психику, формирующую у них суицидальную установку личности. В научной литературе возрастной интервал с 14 до 16 лет выделяется как «наиболее суицидально рискованный в связи с уязвимостью молодых людей по причине психофизиологических особенностей переходного периода» [9, с. 75–79]. Завышенная виктимность потерпевшего от указанных деяний обусловлена как его личностными, так и поведенческими особенностями. Криминогенная значимость психологических особенностей потерпевшего взаимообусловлена конкретной жизненной ситуацией, в которой он находится, чем определяется содержание и направленность его поведения.
Серьезными факторами виктимизации жертвы являются психические заболевания (расстройства), патологические влечения, поведенческие девиации, предыдущие суицидальные попытки. Зарубежные исследователи полагают, что 90 % детей и подростков, совершивших самоубийство, имели различные формы психических расстройств [13, с. 41]. Анализ статистических данных показывает, что треть потерпевших в семейно-бытовой сфере имели различные психические заболевания, в том числе, обусловленные преступным воздействием виновного лица (36,4 %). Часть подобных жертв находилась в состоянии алкогольного (13 %) или наркотического (2 %) опьянения во время акта самоубийства. В 31 % случаях наблюдались предыдущие суицидальные попытки.
Среди несовершеннолетних, рискующих стать жертвами преступлений, связанных с побуждением их к суициду в сети Интернет: 66,7 % находились на учете в психдиспансере ввиду психических заболеваний (расстройств); 22,2 % в момент совершения самоубийства находились в состоянии алкогольного опьянения; 40,7 % имели предыдущие суицидальные попытки. Интересно, что наши результаты согласуются с другими исследованиями. Так, согласно данным К. В. Сыроквашиной и ее соавторов, «до 21,2 % детей и подростков пытаются покончить с собой, будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением психоактивных веществ. Ребенок, пытаясь «решить проблему» при помощи алкоголя (наркотиков) лишь усугубляет свое психоэмоциональное состояние, снижая самоконтроль, ослабляя критическое восприятие окружающей среды и ускоряя переход суицидальных мыслей в действие» [9, с. 75–79].
Низкое социальное положение, несовершеннолетие, беспомощность, материальная, психологическая или иная зависимость от обвиняемого, в том числе, предопределяют виктимность рассматриваемого типа потерпевшего.
В механизме преступления проявляются самые различные нравственно-психологические особенности потерпевших, такие как внушаемость, ведомость, обидчивость, эгоистичность, импульсивность, мнительность, доверчивость, моральная неустойчивость, отчужденность от родителей и своих сверстников. Потерпевший обладает невысокими коммуникативными и адаптационными способностями, не проявляет интереса к учебе, мало участвует в общественно полезных мероприятиях, зачастую подвергается насмешкам со стороны сверстников, ведет замкнутый образ жизни, предпочитая виртуальное общение в сети Интернет с самоизоляцией [10, с. 85].
К факторам, способствующим повышенной виктимности потерпевшего следует отнести подверженность постороннему влиянию, неосмотрительность, заниженную самооценку, неумение правильно оценить жизненную ситуацию, недостаточное осмысление происходящего, отсутствие адекватного видения ситуации, пренебрежительное отношение к собственной безопасности, низкий уровень правосознания, неспособность своевременно принять должные меры по нейтрализации конфликтной внутрисемейной обстановки.
Потерпевший, нередко имеет асоциальную установку личности, состоит на учете в ПДН и КДН ввиду участия в суицидальных играх (51,9 %), по причине бродяжничества (3,7 %), из-за антиобщественной деятельности (11,1 %). Судимости у анализируемого лица не отмечены.
Признаками, свидетельствующими о наличии суицидальных тенденций в поведении ребенка, являются: потеря интереса к обычным занятиям, резкая смена настроения, безразличие к социальным нормам, обрывание или игнорирование социальных контактов, изменение привычек в еде, режиме сна, неоднократные побеги из дома (школы), протестное (рискованное) поведение, предыдущие попытки самоубийства, снижение академической успеваемости, трудности с концентрацией внимания, пренебрежение к своему внешнему виду, насильственные проявления, раздача любимых вещей. Кроме того, подобными показателями являются рисунки или записи в школьных тетрадях (альбомах) на тему смерти или самоубийства. К ним следует отнести также высказывания, как: «Я не буду больше проблемой для Вас!», «Ничего не имеет значения», «Я больше не увижу тебя», «Я хочу убить себя», «Я собираюсь покончить жизнь самоубийством». Поэтому, подобные угрозы должны восприниматься всерьез. Рекомендуется незамедлительное обращение к психологу, врачу или работнику психиатрической службы за профессиональной помощью [13 с. 41].
В литературе отмечается, что профилактический разговор с ребенком существенно снижает риск суицидального поведения. Несовершеннолетний при этом не должен подвергаться резкой критике, осуждению или порицанию. Сообщение в его адрес может носить информацию следующего содержания: «Самоубийство — не выход. Помощь для тебя доступна» [13, с. 128].
Эксперты выделяют аффективный, истинный и демонстративный суициды [5, с. 72]. Анализ материалов следственно-судебной практики показывает, что для детей и подростков смерть представляется расплывчатой концепцией и им не свойственно реальное намерение лишить себя жизни. Преступные действия обвиняемого, выразившиеся в угрозах, жестоком обращении, систематическом унижении человеческого достоинства потерпевшего, находящегося от него в материальной, психологической и иной зависимости, создают для последнего длительную психотравмирующую ситуацию. Ребенок, таким образом, находясь в состоянии сильной эмоциональной напряженности, подавленности, в силу малолетнего возраста, несформированной личности, слабоустойчивой психики, ограниченности жизненного опыта, недостаточной осведомленности в вопросах правовых отношений, будучи неспособным справиться со своими душевными волнениями и переживаниями, в качестве выхода может выбрать самоубийство. Поэтому такое деструктивное поведение может обуславливаться намерением избежать им физической, эмоциональной или психологической боли.
Важная роль в предупреждении самоубийства среди детей и подростков отводится общей и частной профилактической работе. Первая направлена на оказание помощи ребенку на стадии развития суицидального настроения (устранение социальных и социально-психологических причин), вторая — на стадии реализации суицидального поведения (своевременное выявление и оказание психологической помощи). Выделяют три уровня профилактических мероприятий, способствующих снижению уровня детских самоубийств:
-
— общую и частную превенцию, направленную на физическое, социальное, эмоциональное и интеллектуальное развитие несовершеннолетних, укрепление их психического здоровья, медицинскую реабилитацию, корректировку кризисных переживаний, учебных и социальных трудностей, привитие навыков преодоления жизненных трудностей, улучшение условий труда, образования, досуга, создание доступных центров преодоления кризиса, профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и социально-негативных явлений (наркотизма, алкоголизма, проституции, бродяжничества, игромании);
-
— интервенцию, основным содержанием, которой являются активные действия психологов, психиатров, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, направленные на решение проблем ребенка, оказавшегося в трудных жизненных условиях, связанных с жестоким обращением в семье, алкоголизмом родителей, криминальной средой, травлей в школе, издевательствами в сети Интернет, антиобщественным поведением, приобщением к употреблению психоактивными веществами и проч.);
-
— поственцию, включающую в себя комплекс мероприятий по оказанию медицинской, психиатрической (кризисная психотерапия), социально-правовой помощи несовершеннолетним, после неудачной
попытки самоубийства, включая их родителей и близких [12, с. 93–95].
Следует также обратить внимание на положительный зарубежный опыт в сфере профилактики детских самоубийств (британский, шведский, финляндский и французский). Определенный интерес вызывает модель стресс-уязвимости и развития суицидального процесса от идеи суицида до аутоагрессивных действий, предложенная шведским суицидологом Д. Вассерманом (D. Wasserman). Его концепция содержат четыре защитных фактора: когнитивный стиль и индивидуальность (уверенность в себе, развитость социальных навыков, коммуникабельность), модель семейных отношений (конструктивное взаимодействие с членами семьи, воспитание, поддержка), духовно-культурные, социально-демографические признаки (приверженность к национальных обычаям, традициям, социальная интеграция, хорошие взаимоотношения и поддержка среди сверстников), экологические и личностные факторы (здоровый образ жизни, физическая активность, отсутствие вредных привычек и др.) [15, с. 14].
Заключение и выводы
Ввиду высокой социальной значимости проблемы самоубийства среди несовершеннолетних, российские органы власти уделяют ей существенное внимание, например, путем усиления уголовной ответственности и введения новых квалифицированных составов за преступную причастность к суициду. Реализуются программы по совершенствованию системы профилактики суицида в детской и подростковой среде как на федераль-ном1, так и на региональном уровнях2. При этом система профилактики суицида среди несовершеннолетних объединяет широкий круг субъектов подобный деятельности, включающий представителей Минздрава, Минпросвещения, Минтруда, Минобрнауки, МВД, ФСИН, Росмолодежи, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Тем не менее криминальная ситуация в стране, связанная с детскими самоубийствами, по-прежнему остается весьма сложной, представляя угрозу общественным устоям и отношениям. Это требует принятия неотложных мер по разработке и внедрению современных инновационных технологий личностно-ориентированной, социально-правовой, коррекционной, педагогической, реабилитационной, терапевтической и иной помощи несовершеннолетним, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях.
В целях обеспечения правильного применения законодательства, предусматривающего ответственность за преступную причастность к суициду, оптимизации и совершенствования уголовно-правовых механизмов противодействия такому деянию, предлагается сконструировать и изложить ст. 110 в новой редакции, исключив из уголовного закона ст. 110.1 и ст. 110.2 (ввиду идентичности квалифицирующих признаков в трех анализируемых нормах):
«Статья 110. Побуждение к совершению самоубийства посредством доведения до самоубийства, склонения к совершению самоубийства или содействия совершению такового
-
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, совершенное умышленно или по неосторожности, путем угрозы (угроз), применения пыток, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, — наказываются…;
-
2. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, шантажа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, — наказываются…;
-
3. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий
-
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, — наказываются…;
-
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;
-
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
-
в) в отношении близких родственников;
-
г) в отношении двух или более лиц;
-
д) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
-
е) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
-
ж) в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
-
и) из корыстной или иной личной заинте-ре сованности;
-
к) из хулиганских побуждений;
-
л) по мотиву кровной мести;
-
м) путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к его совершению;
-
н) путем вовлечения в деятельность деструктивных сетевых групп (сообществ) суицидальной направленности;
-
п) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, — наказывается…;
Примечание.
-
1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступления, предусмотренного настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
-
2. Под самоубийством в статье настоящего Кодекса понимаются действия
-
3. Под покушением на самоубийство в статье настоящего Кодекса понимаются действия (бездействия), направленные на преднамеренное умышленное лишение себя жизни вменяемым лицом, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.
-
4. Под близкими родственниками в статье настоящего Кодекса понимаются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки ».
(бездействия), направленные на преднамеренное умышленное лишение себя жизни вменяемым лицом.
Следует рассмотреть проблему декриминализации пропаганды (рекламирования) суицида и публичных призывов к его осуществлению, а также распространения информации о способах совершения самоубийства, установив за такие деяния административную ответственность, если эти действия не содержат уголовно наказуемых последствий. Следовательно, необходимо дополнить Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации нормой — ст. 6.21.3, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 6.21.3. Пропаганда самоубийства или членовредительства, либо публичные призывы к их совершению, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния
-
1. Пропаганда либо незаконная реклама самоубийства или членовредительства, выразившаяся в распространении деструктивной информации, направленной на формирование аутоагрессивных установок, привлекательности и искаженного представления о суициде, самоповреждени-ях, либо навязывание подобной информации, вызывающей интерес к таким действиям, равно распространение информации о способах осуществления такой деятельности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет…;
-
2. Производство либо распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению самоубийства или членовредительства, или других материалов, обосновывающих либо оправдывающих необходимость осуществления такой
-
3. Действия, предусмотренные частью
деятельности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет…;
1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут…».
Список литературы Виктимологическая характеристика и предупреждение криминального суицида несовершеннолетнего
- Vasin SA. Mortality from injuries with uncertain intentions in Russia and in other countries. Demograficheskoe obozrenie [Demographic Review]. 2015;2(1):89-124. EDN: VOFMKR. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v2i1.1790
- Gadzhieva AA. Victimology: [textbook]. Makhachkala, 2016. 152 p. (In Russ.).
- Gvozdeva IS, Shapiro LG, Yuzhaninova AL. Special psychological knowledge in the investigation of inducement of minors to commit suicide using the Internet. Suicidologiya [Suicidology]. 2018;9(4):118-137. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.32878/suiciderus.18-09-04(33)-118-137
- Kasen GA, Mynbaeva AK, Sadvakasova ZM. Suicide prevention among young people through the prism of foreign and domestic experience: [monograph]. Almaty, 2015. 105 p. (In Russ.).
- Lichko AE, Alexandrov AA. Suicidal behavior in adolescents. Kliniko-psihologicheskie, social'nye i pravovye problemy suicidal'nogo povedeniya [Clinical-psychological, social and legal problems of suicidal behavior]: Mat. symposium. Moscow, 1974:71-79. (In Russ.).
- Maletina MA. Criminal-legal characteristic of criminal involvement in suicide, not connected with bringing to it: [dissertation]. Barnaul, 2021. 226 p. (In Russ.).
- Puchnina MY. Criminal suicide of minors: criminological and criminal-legal measures of counteraction: [dissertation]. Voronezh, 2019. 254 p. (In Russ.).
- Steshich ES. Theoretical and methodological foundations of the criminological study of crimes related to causing death: [dissertation]. Rostov-on-Don, 2019. 533 p. (In Russ.).
- Syrokvashina KV, Oshevskiy DS, Badmaeva VD, Dozortseva EG, Makushkin EV, Aleksandrova NA, Terekhina SA. Nutskova EV, Fedonkina AA, Chibisova IA, Shkityr EYu. Risk factors for the formation of suicidal behavior in children and adolescents (based on the results of the analysis of regional postmortem forensic examinations). Psihologiya i pravo=Psychology and Law. 2019;9(1):71-84. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090105
- Shalagin AE, Idiyatullov AD. Criminological characteristics and prevention of crimes related to the inducement to suicide, committed with the use of information and telecommunications network "Internet". Uchenye zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii [Scientific Notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. 2018;3(6):82-87. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.24420/KUI.2018.42.29.006
- Shkityr EYu. Postmortem complex forensic psychological and psychiatric examination of minors with suicidal behavior (clinical and forensic psychiatric aspects): [dissertation]. Мoscow, 2022. 229 p. (In Russ.).
- UNICEF. Mortality of Russian adolescents from suicide. UN Children's Fund, 2011. 131 p. (In Russ.).
- Glen E, Farberow NL. The Encyclopedia of Suicide. 2nd ed. New York: Facts On File, 2003. 329 p.
- Neil M, Field T. Bullycide: Death at Playtime. Success Unlimited, 2001. 303 p.
- Wasserman D. A stress vulnerability model and the development of the suicidal process. Suicide. An unnecessary death. London: Martin Dunitz, 2001:13–27.