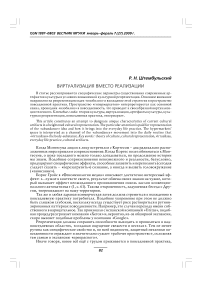Виртуализация вместо реализации
Автор: Штембульский Р.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Исследования молодых ученых
Статья в выпуске: 1 (27), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются специфические параметры существования современных артефактов культуры в условиях повышенной культурной репрезентации. Основное внимание направлено на репрезентацию идеи «изобилия» и вхождение этой стратегии в пространство повседневной практики. Пространство «гипермаркетов» интерпретируется как основной канал, проводник «изобилия» в повседневность, что приводит к своеобразной виртуализации телесного.
Теория культуры, виртуализация, артефакты культуры, культурная репрезентация, повседневная практика, гипермаркет
Короткий адрес: https://sciup.org/14488743
IDR: 14488743
Текст научной статьи Виртуализация вместо реализации
This article constitutes an attempt to designate unique characteristics of current cultural artifacts in a heightened cultural representation. The particular attention is paid for representation of the «abundance» idea and how it brings into the everyday life practice. The hypermarkets’ space is interpreted as a channel of the «abundance» movement into the daily routine that «virtualizes» the body-substance. Key words: theory of culture, cultural representation, virtualizes, everyday life practice, cultural artifacts.
Когда Монтесума лицом к лицу встретился с Кортесом – два радикально расположенных мира пришли в соприкосновение. Когда Кортес полез обниматься к Монтесуме, о шоке последнего можно только догадываться, но продолжение истории мы знаем. Подобные соприкосновения невозможного и реальности, безусловно, продуцируют специфические эффекты, способные захватить и переполнить (сегодня следует сказать – «перезагрузить») сознание, а иногда и вызвать головокружение («зависание»).
Борис Гройс в «Феноменологии медиа» описывает достаточно интересный эффект: «…чужое в контексте своего, результат обмена своих знаков на чужие, который вызывает эффект неожиданного проникновения сквозь заслон конвенционального автоматизма» (1, с. 61). Такова откровенность, задушевная беседа с Другим, «перешедшим» на нашу территорию.
Так же и любая здравая коммерческая затея должна стремиться к вхождению в повседневную практику потребителя. Подобное укоренение при этом не должно быть слишком глубоким, поскольку всегда существует риск раствориться в рутини-зированных паттернах повседневности. Например, это случаи перехода имени собственного в нарицательное. Так произошло с испанской компанией «Unitas», подобная процедура угрожает компании «Xerox» и, вероятно, из-за обширной экспансии, скоро вызовет подобные проблемы у компании «Google».
Репрезентация должна сохранять способности выходить и проявляться в надповседневных областях, «создавая ощущение свежести и веселья». Тем не менее рутина как специфическое свойство и, по всей видимости, защитный механизм повседневности ограждает и значительно сужает «рабочее пространство», осложняя тем самым и экспансию «прекрасного».
Иначе говоря, новое всё ещё с трудом приживается в повседневной практике,
г
хотя это, безусловно, часть стратегической программы не только бизнеса. Подобное вхождение в повседневность непременно должно порождать всевозможные сбои и модификации как в пространстве сознания, так и в социокультурных областях. В качестве одного из подобных сбоев мы и рассматриваем «виртуализацию вместо реализации» .
Далее хотелось бы отметить некоторые метаморфические изменения в сознании покупателя, а также специфику торговых «гиперпространств» (в простонародье – «гипермаркетов»), способных на такое воздействие. Через «гипермаркетизирован-ные» пространства прокладывается очень надёжный канал для входа в повседневную практику (отказаться от «покупки хлеба» не так-то просто), а в качестве движущего механизма здесь выступает репрезентация изобилия .
Действительно, эффекты изобилия , особенно в наших, всё еще постсоветских, культурных реалиях, без преувеличения можно назвать архетипической конструкцией, сложившейся ещё с недостопамятных времён.
Изобилие способно гармонично сомкнуть повседневность и праздность на основе символического производства и экономии, как труд и его плоды. Соблазн же современной ситуации в том, что сегодня одно не обязательно предполагает другое. Здесь важно упомянуть и о современной идеологии демократии, где, как известно, возможности и свобода выбора репрезентируются в виде «незыблемых» ценностей. Вопрос, однако, в том, как эти возможности реализовать.
Итак, эффекты изобилия и квази-возможности выбора – вот настоящие столпы виртуальности. Именно здесь складывается территория отдыха, развлечений и игры, окутанная непринуждённой, праздной и позитивной атмосферой ( shopping ). Мы фиксируем ее в том же режиме, что и, например, в азартных играх или праздном времяпрепровождении, отмечая это как приятное и лёгкое ощущение (фиксируем так, что иногда забываем вовремя задаваться вопросом: «сколько это стоит?»).
Впрочем, иногда это нелёгкое дело по укоренению над-повседневных практик в области повседневного обнаруживает и другую модель репрезентации изобилия: модель, которую мы бы назвали «экзистенциально-аскетической» в противовес «виртуально-изобильной» . Например, всё в тех же странах с давно и хорошо развитой демократической и маркетинговой политикой периодически проявляются различные протестные и девиантные формы поведения, иногда выражающиеся в полном отказе от потребления. По существу, это некий сбой и прорыв экзистенциального сквозь виртуальный защитный экран.
Сама по себе реализация модели осуществляется как тривиальная операция покупки. При этом зачастую выбор происходит исключительно визуально, то есть непосредственный телесный контакт – явление редкое (в интернет-магазинах широко внедряется «покупка в одно нажатие» – «1Click»). Так, казалось бы, странным образом – в одно касание – реализуется частичка виртуального.
Однако более интересно то, что следовало бы называть «заражением виртуальностью», или виртуализацией реального . Записи видеокамер, снимающих прилавки, или расспросы продавца-консультанта свидетельствуют о странном поведении посетителей (ещё не покупателей): они ходят среди прилавков, как бы что-то ищут, что-то находя, берут, трогают, рассматривают и… кладут на место.
После очередного налёта (рождественские и новогодние распродажи) несчастные работники магазина, призванные следить за тем, чтобы на прилавках сохранялась заданная таксономия, заново реконструируют пострадавшие ряды, не обнаруживая – к огорчению директоров – требуемой пустоты прилавков. Это нельзя назвать выбором, так как ведёт не к реализации предлагаемого изобилия, но к своеобразной виртуализации телесного.
Между тем в пространствах реальности такой сакральный и очень личный акт всё ещё осложняется тремя моментами: а) неожиданным столкновением с таблич- кой «Улыбнитесь, Вас снимает видеокамера!»; б) назойливым продавцом-хвостом, старающимся для ненавязчивости слиться с виртуальностью; в) и, конечно же, – вспоминая Жан-Поля Сартра – «другими».
Успех и распространение магазинов самообслуживания подтверждает необходимость почти интимного пространства при контакте с виртуальным.
В то же время в условиях городской и массовой культуры подобный процесс компенсирует и известный дефицит личного пространства, о котором кто только не писал – от Х. Ортеги-и-Гассета до Ж. Бордрийяра, от Н. К. Рериха до А. Я. Фли-ера! Как рудиментарный анахронизм смотрятся обычные магазины с продавцом между прилавком и покупателем, а тем более, рынки, вообще – наследие культуры сельских производителей. Что же тогда говорить о персональном компьютере, захватывающий эффект от пользования которым и есть самая настоящая виртуальная реальность!
В своей гипертекстуальности и с нечеловеческими скоростями PC сквозь свои несколько дюймов экрана в «лучшем виде» репрезентирует практически любые пласты культуры. Следующим шагом, который позволяет окончательно решить проблему шумовых эффектов торгового зала, «загрязняющих» ценное персональное пространство, становятся уже интернет-магазины. На западе уже освоили практику «соблазняющих» гиперреалистичных изображений продукции (cм., например, сайт «Apple»).
Очевидно, что для реализации виртуальности недостаточно простого скопления вещей в ограниченном пространстве. В гипер- и супермаркетах это называется «навигацией» по пространству магазина (впрочем, указатель «выход» – по причинам, которые, мы надеемся, проявятся в заключении, – чаще всего отсутствует, как, например, в «Ашанах»). Навигация выступает как некая тематизация пространства, что отсылает нас к всевозможным музейным коннотациям. Можно ли говорить о виртуальности музея?
По нашему мнению, музейные пространства вполне способны на подобные эффекты, выступая в качестве институтов хранения и трансляции наиболее репрезентативной части культурного наследия, изъятой из среды своего бытования и перемещённой в нефункциональное, внеконтекстуальное и символическое пространство. Здесь следует подчеркнуть важность специально сконструированного порядка ассортимента, организации его в осмысленную, а потому «обозримую» таксономическую последовательность.
Вместе с этим важно и то, что так эмоционально описывает М. С. Каган: «...искусство позволяет мне перевоплощаться во француза и в индейца, в принца и в нищего, в представителя другого пола и другого возраста, в носителя другого психического склада, характера, миросозерцания и таким образом присваивать себе чужой опыт » (2).
В западной маркетинговой практике есть специальный термин «Muzak», означающий облегчённую музыку, играющую в супермаркетах, которая к тому же стимулирует инстинкт потребления. Шведам особенно удаётся разрабатывать эффектные ситуации и пространства потребления, создавая почти законченную предметно-пространственную среду (целые помещения) функционирования товара после покупки (IKEA). У нас недавно появились уже не просто магазины-салоны, но «настоящие» магазины-галереи и даже дворцы («Евросеть» на Тверской)! Так что способов регуляции степени и глубины интеракции покупателя с товаром предостаточно, однако существует всё же и принципиальная разница между музейным экспонатом и товаром на прилавке. Разница эта, очевидно, заключается в качестве самих объектов и специфике их интеракции со зрителем.
Ясно, что музейные объекты репрезентируются с повышенной культурно-исторической значимостью и ценностью, например, как шедевры или как свидетельства
г
великого (феномен валоризации). В то же время сам музей или другое арт-простран-ство представлены в культуре как специфические институты и организации культуры. Именно поэтому в музее есть «выход», а телесный контакт с экспонатом необязателен (и часто запрещён). Несмотря на то, что современные гипер- и супермаркеты охотно перенимают музейные способы репрезентации, «магазинный экспонат» всё ещё не имеет такой повышенной ценностно-смысловой нагрузки, а её отсутствие компенсируется через телесный контакт вещи и покупателя . Однако оба пространства одинаково втягивают реципиента с его материально-реальной телесностью в виртуальность .
Современный сентиментальный человек, оказавшись в виртуальном пространстве магазина, как неофит в искусстве, оказывается сраженным наповал оригиналом – улыбкой Джоконды. Это была чья-то гениальная и тонкая находка: поместить товары в стеклянные витрины, как экспонаты в музее, и лукаво, по первому требованию посетителя-покупателя, передавать их для осмотра.
Что же тогда говорить о переживаниях археолога, добравшегося до шестнадцатого культурного слоя, или полевого этнолога, практикующего метод включённого наблюдателя? Все ритуально-мистические и храмовые пространства создают подобные эффекты. (Так что образ «храм потребления» оказывается не таким уж ироническим.)
Интересно, что возможен и обратный ход. По существу, это идея романтического театра с ее преодолением отстранённости сценического и зрительного пространств. Перформансы современного искусства, городские карнавалы, массовые шоу, митинги, демонстрации и т.п. достигают обратного эффекта: «хода» от виртуализации к катарсическим эффектам воздействия на телесность.
Так или иначе, но шюцевская «верховная реальность» (3) через редукцию к повседневности обязательно запустит обратные механизмы «сборки» телесного. Хотя это и будет телесность в уже обновлённой конфигурации, заражённая вирусом виртуального.