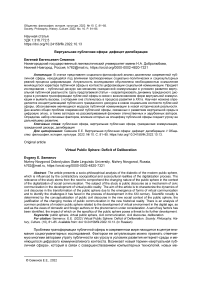Виртуальная публичная сфера: дефицит делиберации
Автор: Семенов Е.Е.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен социально-философский анализ диалектики современной публичной сферы, находящейся под влиянием противоречивых социально-политических и социокультурных реалий процесса цифровизации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления меняющегося характера публичной сферы в контексте цифровизации социальной коммуникации. Предмет исследования - публичный дискурс как механизм гражданской коммуникации в условиях развития виртуальной публичной реальности. Цель предлагаемой статьи - охарактеризовать динамику гражданского дискурса в условиях трансформации публичной сферы в связи с возникновением форм виртуальной коммуникации и выявить вызовы, с которыми она столкнулась в процессе развития в xXi в. Научная новизна определяется концептуализацией публичного гражданского дискурса в новом социальном контексте публичной сферы, обоснованием меняющихся модусов публичной коммуникации в новой исторической реальности. Дан анализ общих проблем современной публичной сферы, связанных с развитием виртуальной среды в цифровую эпоху, а также взглядов на рассматриваемый феномен отечественных и зарубежных авторов. Определен набор ключевых факторов, влияние которых на специфику публичной сферы создает угрозу ее дальнейшему развитию.
Публичная сфера, виртуальная публичная сфера, гражданская коммуникация, гражданский дискурс, делиберация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141216
IDR: 149141216 | УДК: 1:316.772.5 | DOI: 10.24158/fik.2022.10.13
Текст научной статьи Виртуальная публичная сфера: дефицит делиберации
дийных форм социального взаимодействия в последние годы получает заметную исследовательскую рефлексию. Вместе с тем анализ социально-философских, социологических, политологических исследований показывает, что, несмотря на развитие инновационных цифровых инструментов коммуникации, в поле зрения современных ученых остаются те же проблемы, которые ставились на протяжении ХХ в.: возможность обеспечивать свободный поток информации и равное участие в обсуждении волнующих общество социальных проблем, предоставлять реальные возможности для успешного управления, опираться на гарантированные законом гражданские права – свободу выражения мнений и собраний, законов о доступе к информации. Относятся ли эти вопросы в том числе к виртуальной публичной сфере, в какой мере этот новый сегмент публичности призван выполнять функции поддержки активной демократической жизни, открытого диалога для формирования взвешенных мнений?
Термин «виртуальная публичная сфера» можно рассматривать как уже утвердившийся в концептуальном статусе в современных научных исследованиях. Вместе с тем явно звучит тема снижения популярности концепции публичной сферы в научном дискурсе, обосновывается необходимость реинтегрировать публичность и публичную сферу в область научного анализа (Splichal, 2021). Благодаря развитию информационных технологий и трансграничных коммуникаций анализируются новые формы публичности, которые приводят к коммерческому сближению реального и виртуального в «эпоху разрушения» (Deckard, Williamson, 2021). Остается дискуссионным вопрос о неравенстве в доступе к информации, что подрывает репрезентативность виртуальной сферы (Papacharissi, 2002). Рассматриваются особенности публичной сферы в контексте различных политических режимов (Саликов, 2019), предлагается переосмысление виртуальной публичной сферы в развивающихся странах, акцентируется влияние цифрового разрыва, роли культуры в определении того, что называют общим благом (Raman, 2015). Подчеркивается необходимость переоценки виртуальной публичной сферы в качестве платформы для онлайн-дебатов по актуальным темам публичной повестки. В этом контексте можно выделить внимание исследователей к проблемам сегрегации аудитории на основе интересов и пристрастий, что не создает атмосферу соучастия в сетевом публичном дискурсе (Dubois, Blank, 2018); выявляются угрозы сотрудничеству со стороны повышающегося уровня поляризации взглядов и оценок, что формирует риск социального конфликта и препятствует достижению общего блага (Abisheva et al., 2016). Исследуется природа публичной и контрпубличной сфер, эффективность социальных сетей для организации обсуждения проблем в демократической обстановке (Dhamala, 2020). Вместе с тем некоторые ученые считают, что дискуссионные онлайн-форумы не отвечают идеальным требованиям публичной сферы, полагая причиной этого отсутствие совещательных дебатов (Ferree et al., 2002).
Развитие процессов цифровизации коммуникативного пространства настоятельно ставит перед исследователями вопросы о характере «новой публичности» в цифровую эпоху. Рассматриваемой в статье проблемой является несоответствие конфликтного модуса публичной коммуникации в виртуальной среде социальных сетей задачам достижения открытого диалога для формирования взвешенных мнений по актуальным социальным вопросам.
Множественные социальные трансформации, которые характерны для современного цифрового этапа развития общества, обусловливают и динамику различных форм коммуникации в публичной сфере, в том числе такой ее модификации, как виртуальная составляющая. Еще десятилетие назад набор атрибутов публичной коммуникации рассматривался как объект серьезных атак, что угрожало демократическим правам граждан (Крауч, 2010). Необходимо выяснить, что изменилось в современном цифровом мире в феномене публичности. В статье предлагаются следующие исследовательские вопросы: применимо ли понятие «гражданский диалог» для нового измерения коммуникации в виртуальной среде и возможна ли реализация принципов дели-беративной демократии в условиях развития публичной сферы в ее виртуальном варианте?
Методология исследования включает диалектический подход как основу анализа развития социальных противоречий в трансформирующейся публичной сфере и опирается на принципы теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса и его метод социально-философского анализа интерсубъективности в коммуникативном действии. Ключевым в исследовании выступает понятие «делиберация», являющееся предметом продолжающейся дискуссии о характере публичности. Главный тезис статьи: современные формы, в которых развивается интернет-коммуникация, не дают оснований считать их дискуссионными площадками для гражданского диалога.
Проблемы публичной сферы в ХХ в. традиционно вписаны в рамки теорий демократии и гражданского общества. Существует много исторически сложившихся факторов, формирующих публичную сферу и устойчивый теоретический каркас ее изучения. Между тем в начале XXI века, названного эпохой коммуникационного изобилия (Кин, 2015), публичная сфера оценивалась исследователями как находящаяся «в сумеречной зоне» (Splichal, 2021). Результаты, к которым приходили авторы (Ferree et al., 2002), не вполне соответствовали ожиданиям коммуникативных эффектов от новой сферы публичности, что приводило некоторых социологов к «метафорическому» выводу: «публичная сфера приближается к терминальному состоянию» (Johnson, 2006). Во многом это воспринималось как утрата публичной сферой основных жизненных функций. Можно предположить, что значимым фактором этих трансформаций стал характер дискурса, развивающийся в виртуальной среде социальных сетей, далекий от принципов делиберации.
В начале становления сетевой коммуникации оценки виртуального дискурса строились на убеждении, что гражданская и политическая жизнь и характер публичного дискурсивного общения между гражданами должны соответствовать демократическим идеалам, строиться на демократической культуре и минимуме общих ценностей (Dahlgren, 2001). В условиях современного цифрового мира возникает вопрос: какие критерии могут быть инструментами измерения качества дискуссий в онлайн-среде, которые позволяли бы говорить о возможности существования виртуальной публичной сферы? Применяя теорию совещательной демократии к цифровому контексту, исследователи предлагают набор следующих нормативных стандартов: рациональность, взаимность, разнообразие, уважение и инклюзивность (Lyons, 2017). С этим набором можно согласиться в том случае, если рассматривать коммуникацию с традиционных позиций ведения диалога или дискуссии субъектами, находящимися в «зоне видимости», т. е. в традиционно сложившихся формах дискуссий с их принятым этосом, формирующимся на принципах делибера-ции, например в поле институциональной политической публичности. Тем не менее и здесь признается наличие кризиса политических институтов демократий, в частности представительных институтов. Причиной такого положения становится трансформация содержания и характера политики, размывание ее границ, возрастающее отчуждение граждан от политики (Павлова, 2018). Вместе с тем наиболее значимым фактором выступает появление в поле политики новых неин-ституционализированных субъектов, что ведет к отмечаемому теоретиками индивидуализму, индивидуальному самовыражению и индивидуальному действию (Дзоло, 2010: 126), но тем не менее не отменяет возможных путей к солидаризации, коллективным действиям, сотрудничеству.
Казалось бы, интернет-сообщества, социальные сети созданы для дискуссий, обсуждения сложных проблем, волнующих общество, для размышления над актуальными социальными вопросами, что ведет к достижению согласия, как указывает Ю. Хабермас, с интерсубъективным признанием притязаний на значимость. По сути, все эти действия и подразумевает процесс делиберации. Ю. Хабермас видел публичную сферу ареной, где может вырабатываться рациональное общественное мнение по поводу значимых для всего общества тем (2008: 396). Говоря о коммуникативной структуре рациональных дискурсов, философ полагает, что в них должны прозвучать все релевантные выступления, в то же время «да» и «нет» участников должны определяться лишь ненасильственным принуждением со стороны лучших аргументов (Хабермас, 2008: 104). Таким образом, этика дискурса определяет и этос интерсубъективности в гражданской коммуникации.
Ряд критических возражений Ю. Хабермасу и его пониманию делиберативной демократии строится на том основании, что онлайн-дискуссии не всегда могут соответствовать высоким идеалам совещательной демократии, поскольку их участники не обладают всеми инструментами ведения рационального дискурса. Так, П. Дальгрен, анализируя категорию совещательной демократии, указывает на возможность дисперсии старых рациональных паттернов, однако признает, что, несмотря на разность форм гражданской культуры, онлайн-диалог предполагает необходимость минимальных общих обязательств в отношении процедур демократии и способность видеть дальше непосредственных интересов собственной группы (Dahlgren, 2005). Тем не менее мы сталкиваемся с парадоксальным результатом развития сетевого дискурса, где не остается места сотрудничеству, а открытость как главное качество публичности исчезает. Если Ю. Хабермас уповает на то, что дискурсы как компоненты демократической процедуры делиберации должны создаваться коммуникативным круговоротом между центром и периферией публичной сферы для того, чтобы могло возникнуть общественное мнение (2012: 135), то новые концепции сетевой коммуникации предусматривают, что в цифровую эпоху взаимодействиями в социальных сетях управляют алгоритмы, выделяя одни новости и исключая другие, поставляя трендовые сообщения, создавая на этой основе процедурные логики для вычисления интересов. Происходит исчезновение публики, ей на смену приходит «персонализированная, рассчитанная общественность», что демонстрирует коммодификацию сетевой аудитории и коммерциализацию виртуальной публичной сферы (Gillespie, 2013). Немаловажным фактором, влияющим на характер этого сегмента коммуникативного пространства, можно рассматривать создаваемое символическое пространство медиаполитики, которое втягивает в свою орбиту все сферы общества, сообщая медиатизированный характер и сетевым сообществам (Кузнецова, 2021: 15).
Одним из факторов «ослабления» делиберации в сетевой среде, ее уязвимости следует назвать распространение дезинформации, что значительно снижает рациональность гражданского дискурса. Возникают и другие признаки, определяющие изменения виртуальной публичности: появление закрытых сообществ, их «недиалогичность», непрозрачность действий субъектов, использование социальных сетей для распространения экстремального контента.
Подводя итог сказанному, нужно отметить, что виртуальная публичная сфера выступает предметом теоретических дискуссий и эмпирических исследований. Анализ ее динамики показывает, что на современном цифровом этапе ее развития можно представить в терминах дефицита делиберации, рациональной свободной дискуссии. Множественные, перекрещивающиеся, перетекающие интересы сетевых сообществ отражают социальную фрагментарность, характеризующую виртуальную сферу цифрового мира. Рационально-критический дискурс заменяется формируемым на основе эмоций коллективным мнением, ослаблены нормы толерантности в отношениях между носителями разных форм гражданской культуры. Социальная фильтрация усиливается маркетинговыми инструментами, агрессивно используемыми в виртуальной среде медиаагрегаторами. В то же время сетевые структуры оказались пока не в состоянии предложить механизм выработки общественного доверия, который бы способствовал координации и кооперации деятельности различных групп в процессе установления гражданского диалога. Социальные сети открывают новые масштабы информационного поиска, источников данных, предоставляя возможности для развития человеческого потенциала. Вместе с тем процесс делиберации – это не технологические формальные схемы взаимодействия, некий набор правил и механизмов их реализации. Необходимо признать, что общество отчасти «передоверило» цифровым машинным технологиям управление ценностными ориентациями человека, социальных групп, сообществ. Делиберация и возникающий в ее ходе диалог – безусловные гражданские ценности. Однако публичная сфера сама по себе не является гарантией демократии. Проблемы достижения в виртуальном сегменте публичной сферы сложного баланса защиты собственных позиций и терпимости к иным взглядам, формирование модели ценностного синтеза гражданской культуры видятся предметом дальнейшего изучения в сфере социально-гуманитарных исследований.
Список литературы Виртуальная публичная сфера: дефицит делиберации
- Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход / пер. с англ. А. Калинина, Н. Эдельмана, М. Косима. М., 2010. 313 c.
- Кин Дж. Демократия и декаданс СМИ / пер. с англ. Д. Кралечкина. М., 2015. 308 с.
- Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2010. 191 с.
- Кузнецова Е.И. Медиатизация: эффекты медиареальности // Общество: философия, история, культура. 2021. № 6. С. 13-16. https://doi.org/10.24158/fik.2021.6.1.
- Павлова Т.В. Делиберация как фактор конституирования поля современной политики // Политическая наука. 2018. № 2. С. 73-94.
- Саликов А.Н. Цифровая трансформация публичной сферы, ее особенности в контексте различных политических режимов и возможное влияние на политические процессы // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18, № 4. С. 149-163. https://doi.org/10.17323/1728-192x-2019-4-149-163. (На англ. яз.)
- Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшие политические сочинения, XI / пер. с нем. Б.М. Скуратова. М., 2012. 155 с.
- Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / пер. с нем. Ю.С. Медведева. СПб., 2008. 417 с.
- Abisheva A., Garcia D., Schweitzer F. When the filter bubble bursts: collective evaluation dynamics in online communities // Proceedings of the 8th ACM Conference on Web Science. 2016. P. 307-308. https://doi.org/10.1145/2908131.2908180.
- Dahlgren P. The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation // Political Communication. 2005. Vol. 22. P. 147-162. https://doi.org/10.1080/10584600590933160.
- Dahlgren P. The transformation of democracy? // New media and politics / ed. by B. Oxford, R. Huggins. L., 2001. P. 74-99. https://doi.org/10.4135/9781446218846.n3.
- Deckard M., Williamson S. Virtual identity crisis: The phenomenology of Lockean selfhood in the "Age of Disruption" // Indo-Pacific Journal of Phenomenology. 2020. Vol. 20, no. 2. P. 1-7. https://doi.org/10.1080/20797222.2021.1887573.
- Dhamala R. Internet public sphere as a counter-public sphere: The question of effectiveness // Molung Educational Frontier. 2020. Vol. 10, no. 1. P. 149-158. https://doi.org/10.3126/mef.v10i1.34037.
- Dubois E., Blank G. The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media // Information, Communication & Society. 2018. Vol. 21, no. 5. P. 729-745. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656.
- Ferree M., Gamson W., Gerhards J., Rucht D. Four models of the public sphere in modern democracies // Theory and Society. 2002. Vol. 31. P. 289-324. https://doi.org/10.1023/A1016284431021.
- Gillespie T. The relevance of algorithms // Media technologies: Essays on communication, materiality, and society / ed. by T. Gillespie, P.J. Boczkowski, K.A. Foot. Cambridge, 2013. P. 167-193. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.003.0009.
- Johnson P. Habermas: Rescuing the public sphere. L., 2006. 224 p. https://doi.org/10.4324/9780203020166.
- Lyons B.A. From code to discourse: Social media and linkage mechanisms in deliberative systems // Journal of Public Deliberation. 2017. Vol. 13, no. 1. https://doi.org/10.16997/jdd.270.
- Papacharissi Z. The virtual sphere: The internet as a public sphere // New Media & Society. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 2-29. https://doi.org/10.1177/14614440222226244.
- Raman V.V. Interrogating and reimagining the virtual public sphere in developing countries // Management and participation in the public sphere / ed. by M.M. Mervio. Hershey, 2015. P. 191-212. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8553-6.ch009.
- Splichal S. The public sphere in the twilight zone of publicness // European Journal of Communication. 2021. Vol. 37, no. 3. P. 198-215. https://doi.org/10.1177/02673231211061490.