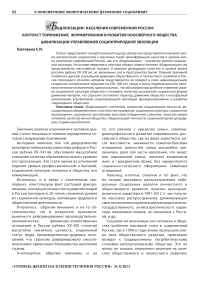Виталистская социология быдлоизации – основа научного обеспечения преодоления кризисного развития современного российского общества
Автор: Григорьев С.И.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Ноосферизм как научно-мировоззренческая система XXI века
Статья в выпуске: 8 (186), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет концептуальный подход автора как представителя научной школы виталистской социологии к изучению такой трансформации качества и уровня жизни населения современной России, как его «быдлоизация» – снижение уровня социальной культуры. На основе введения в научный оборот нового понятия «быдлоизация» им представляется масштабный процесс и явление деградации качества и уровня жизни россиян рубежа XX–XXI вв., их жизненных сил и пространства бытия. Главной причиной появления данной социальной девиации общественного и личностного развития в России последнего 20-летия автором представляется ее возврат в свое цивилизационное социально-историческое прошлое на 250–300 лет назад, в эпоху первоначального капиталистического накопления, «дикого рынка», что обусловило масштабное снижение уровня социальной культуры общества и человека, качества российской социальной формы движения материи, что серьезно осложняет переход, движение общества к ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции, функционирование и развитие «переходного общества».
"быдлоизация" населения, кризисная социализация личности, десоциализация общественного и личностного развития, социальная культура, социальное просвещение, социальное воспитание, массовое (обыденное) сознание, качество жизни человека, качество жизни общества, "быдлоизация" личности, социокультурная деградация, социальные болезни
Короткий адрес: https://sciup.org/143181995
IDR: 143181995
Текст статьи Виталистская социология быдлоизации – основа научного обеспечения преодоления кризисного развития современного российского общества
Значение анализа означенной в заглавии данной статьи тематики в главном определяется сегодня следующими причинами:
во-первых, конечно, тем, что двадцатилетие вульгарно-либерально-рыночных реформ в России рубежа XX–XXI вв. обусловило масштабное снижение качества образования на всех уровнях его организации. Это стало одним из оснований падения уровня профессиональной и бытовой, социальной культуры человека и общества, его коммуникаций.
Во-вторых, и в связи с отмеченным «во-первых», констатируем факт растущей деморализации, эгоизации личностного развития людей в России последнего 20-летия, снижения уровня их социальной культуры, мотивации трудовой и общественной деятельности.
В-третьих, обратим внимание и на то обстоятельство, что в результате вульгарнорыночного реформирования производственноэкономических, финансово-хозяйственных отношений в России рубежа XX–XXI столетий масштабно снизились ценность, социальный статус труда, производственно-трудовых отношений, что серьезно деформировало смысложизненные ориентации большинства населения страны.
В-четвертых, обратим внимание и на то, что связано с кризисом семьи, семейнодемографического развития современного российского общества, где на фоне известного роста массовости, значимости семейно-бытовых отношений, ценностей семьи масштабно увеличилась доля той части населения, что живет вне нормальной семьи, полагает возможным жить в гражданском браке, без юридического социально-статусного оформления семейных отношений.
Наконец, в-пятых, отметим и тот факт, что на основе массового распространения либеральных социальных идеалов личностного и общественного развития, практик вульгарнорыночного характера в 1991-2012 гг. мы получили массовое распространение доминирующих смысложизненных ориентаций вненациональногосударственного, антипатриотического характера, жизненных планов, не связанных с Россией, и др.
Социология жизненных сил человека и общества особенно значимой стала в современной России, где в 1990-е годы вновь произошла смена типа общественного развития, произошел возврат к традиционному потребительскому стихийно-эксплуататорскому обществу. Это не могло не оказать серьезного влияния на качество общественного и личностного развития, безопасность жизни людей, преемственность их социокультурного развития.
Особая актуальность означенной проблематики в развитии населения, современного общества в России, ее аналогов в других странах с учетом специфики их современной социокультурной и общественно-исторической эволюции в главном определяется следующими причинами:
-
- во-первых, тем, что усложнение, рост разнообразия основ социальной дифференциации, увеличения ее масштабов и в социальной практике, в характере доминирующих форм жизнедеятельности, образа жизни, и в массовом, обыденном сознании, а также в научном, элитном осмыслении данной проблематики создали к рубежу XX-XXI веков во многом принципиально иную ситуацию;
-
- во-вторых, констатируем и тот факт, что данная проблематика актуализирована ростом значимости массового понимания – непонимания (знания – незнания) тех глобальных и локальных рисков для жизни людей, что масштабно возросли и распространились в мире, в каждой отдельной стране во второй половине ХХ века. Это стало в начале нового XXI столетия ключевой проблематикой, о чем свидетельствует не только массовость лесных пожаров, но и масштабы техногенного загрязнения, информационного духовно-нравственного, психологического разложения людей, пользующихся интернетом, участвующих в сетевых коммуникациях;
-
- в-третьих, что также очень важно отметить, еще и тем, что осмысление этих новых явлений социального и соцокультурного, духовно-нравственного, семейно-бытового развития было масштабно изменено случившейся в последней трети ХХ века глобальной информационно-коммуникационной революцией, обусловившей во многом новое сочетание глобального, национального и регионального, а также социально-исторического, социогене-тического и актуально-сетевого, повседневнопрагматического;
-
- в-четвертых, нельзя не сказать и о том, что возникшее в последней трети ХХ века новое сочетание основных сфер общественного сознания (мифологии, религии, идеологии, морали, искусства, науки, философии, обыденного сознания людей) и взаимодействия в новой социальноисторической и информационной среде поро-
- дило иные формы воспроизводства и использования не только научно-образовательных, управленческих политико-идеологических практик, но и эволюции массового, обыденного сознания, его использования политическими и финансово-экономическими элитами, корпоративными центрами управления, общественными организациями «третьего сектора»;
-
- в-пятых, отметим и то, что отмеченные новые явления и процессы не могли не усложнить развитие современного социологического знания, не повысить его внимания к проблематике формирования и сохранения жизненных сил человека и общества за счет оптимизации развития социальной культуры. Не случайно куль-турвитализм в развитии виталистской социологии и в близких ей социологических парадигмах оказался по существу к началу XXI века в центре внимания конструктивно работающих элит современного социологического сообщества. При этом показательно и то, что в качестве главных противников, оппонентов ему выступают сторонники постмодернизма, кто готов похоронить сегодня не только социологию, но и другие социальные и гуманитарные науки, а также и человечество в целом…
Означенная проблематика в России масштабно обострена еще и тем, что страна в результате вульгарно-либерально-рыночных реформ1990-х годов оказалась отброшенной в свое и мировое социально-историческое прошлое, в эпоху первоначального капиталистического накопления, «дикого рынка», в социальную ситуацию зависимости от лидеров стран «золотого миллиарда», представляющих интересы мировых элит – сторонников традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского общества, обреченного на трансформацию в XXI столетии в общество цивилизации управляемой социо-природной эволюции, ноосферный социализм, основанный на единении Разума и Духовности, социальной эффективности развития общества, государства и человека, производственных корпораций и общественных организаций «третьего сектора», гражданского общества.
Социология быдлоизации как специальная среднеуровневая теория социологического витализма, в соответствии с современным определением его объекта, предмета и базового исследовательского метода, а также основных, ключевых понятий [1-5 и др.], изучает процессы и явления быдлоизации1 образа жизни человека и общества, населения определенной страны и мирового человеческого сообщества в целом, его жизненных сил и жизненного пространства бытия, массового, обыденного сознания и социокультурного развития людей. В отечественной и зарубежной социологии данные явления и процессы наиболее часто рассматриваются в социологии массового сознания [10-15 и др.], которое характеризуется обычно как «усредненное сознание», которое не включает в себя достижения, выводы, взгляды творчески мыслящих индивидов, их сообществ. В этой связи оно представляется чаще как «отражение «массовыми общностями» различных сторон социальной реальности», как сознание толпы, охлократических сообществ. При этом «охлократия» представляется традиционно как власть толпы или тех социально-политических сил, которые ориентируются на нее, выдвигая, как правило, иррациональные, неосуществимые или упрощенные, обыденные требования и лозунги [15-16 и др.].
Все это, обычно, связывается с развитостью и аномалиями развития социальной культуры человека и общества, распространением социальных рисков , проблематикой рисков в целом [17-21 и др.]. Данная тематика породила во второй половине ХХ века целый ряд новых направлений развития социологии, социологических парадигм, которые, как виталистская социология, отражают не только рост актуальных рисков для жизни людей, но и преемственность их осмысления, начиная с древности [17-23 и др.].
Так, в общественной мысли, в философском знании античности и средневековья, например, риски рассматривались как опасности и случайности, ниспосланные Богом, нечто неопределенное, имеющее сакральное происхождение. В России мы видим это в древнерусской литературе, в ее светских и религиозных произведениях, в летописях. Позднее это наблюдается и в основных социологических парадигмах, в произведениях, в летописях. В XIX-XX веках мы это наблюдаем и в основных социологических парадигмах, в произведениях их выдающихся представителей, основателей. У М. Вебера понятие «риск» получает широкое и основательное осмысление в условиях становления капитализма и используется, как правило, в трех смыслах: а) для обозначения случайности в мореходстве; б) для рассмотрения коммерческих проектов, связанных с опасностями их реализации, финансовой, экономической неэффективности; в) для оценки опасностей в связи с распространением слухов [15-16 и др.].
В творчестве Ф. Найта риск исследуется и рассматривается в контексте определения типа неопределенности, что может привести к неблагоприятным последствиям, которые можно измерить с помощью математических и статистических методов, что в условиях информатизации, информационно-коммуникационной революции (точнее – революций) второй половины ХХ века приобрело огромное распространение, а также значительное разнообразие и массовую стандартизацию [20, с.7-8].
Характеризуемое развитие событий не могло не породить прямо противоположных тенденций. Так, например, такие известные социологи, как У. Бек, Н. Луман, М. Дуглас и другие последовательно проводят в последней трети ХХ века обоснования того, что далеко не все риски (политические, экологические, медико-биологические, технологические и др.) можно представить, выразить с помощью математического инструментария. Они обосновали целесообразность культурного измерения, сохранения экспертных оценок. В данном плане понимание рисков было еще более дифференцированно: у Н. Лумана это – «то, что может произойти в будущем, зависящее от решения, которое следует принять в настоящем»; по методологии М. Фуко, как известно, риск характеризуется как «определенный дискурс, основу которого составляют идеи неопределенности в связи с возможностью перехода к гавернментальности как новому типу управления, предполагающему сетевые формы безопасности и саморефлексию акторов». По М. Дуглас, риск – это социально, культурно и политически сконструированный смысл внешнего мира, включающий представления об опасности и неопределенности: риск – «не вещь, а способ мышления». Согласно выводам У. Бека, риск это – системное производство явных и латентных опасностей для человечества, обусловленное процессом «рефлексивного модерна», особенно – высокой индустриализации и функциональной дифференциации. Это – «ненамеренные последствия как результат ненамеренных изменений в институтах». При этом риск, полагает У. Бек, культурно воспринимается и определяется как риск и (общественное) определение риска, что он является одним и тем же, что риск – это гибрид, созданный человеком. Новые типы рисков являются одновременно глоболокальными, сочетающими реальность и ее восприятие, определение, конструирование… [17; 19 и др.].
В концепции Э. Гидденса риск – это «рукотворная неопределенность как результат человеческой интервенции в условия социальной жизни, а также в природу, политическими последствиями которой стало то, что либеральная демократия «не отвечает требованиям рефлексивной гражданственности в глобализирующемся мире». В свою очередь, Я. Кул-пит характеризует риск как «нечто выбираемое и нечто навязанное», что активизирует сознание и в то же время угрожает ему, делает его рефлексивным [18, с.14].
Один из известных у нас в стране и за рубежом российских социологов С.А. Кравченко связывает риски с возникновением неопределенности, основанной на дихотомии реальной действительности и возможности: как вероятности наступления объективно неблагоприятного последствия для социальных акторов (индивидуальных или коллективных), а также вероятности обретения выгод и благ, что субъективно воспринимается акторами в контексте определенных ценностных координат, на основании чего осуществляется выбор альтернативы действия. В инвайронментальной социологии О.Н. Яницкого социология риска связывается, по преимуществу, с социоэкологией, что органично сочетается с разработками сторонников «движения зеленных» [17-23 и др.].
Виталистская социология, интегрируя означенные подходы к изучению рисков, формирует целостную концепцию анализа качества жизни человека и общества, их безопасности и социальной культуры, а также аномалий бытия, социального, психического и физического здоровья, что так или иначе связано с эволюцией жизненных сил человека и общества, пространства их бытия, характера социальной дифференциации и культурного уровня разных групп населения. В этой связи особое значение имеют, с одной стороны, исследования динамики и масштабов со- циального положения и роли, уровня и качества жизни различных групп населения [24-28 и др.], а с другой, – те, что посвящены анализу проблем развития массового сознания населения, манипуляций с ним [29-31 и др.].
Это формирует две основные группы факторов и условий, которые выделяет виталистская социология в анализе процессов и явлений эволюции быдлоизации человека и общества:
во-первых, те из них, что связаны с эволюцией социального положения и роли, активности и субъектности различных социальных групп населения, их представителей. При этом учитываются детерминанты природного и культурного характера, субъектного и пространственно-бытийного;
во-вторых, речь идет о механизмах управления массовым, обыденным сознанием, эволюцией интеллекта и ценностных ориентаций, смыслов жизни и представлений населения о справедливости.
В основе определения критериев «быдлоиза-ции» человека и общества в социологическом витализме с учетом характера его объекта и предмета мы видим основные смысложизненные ориентации людей , отдельных лиц и их социальных групп, обладающих специфическим мировоззрением и образом жизни, социальным положением и ролью в обществе.
Главным фактором и условием «быдлоизации» жизни человека в этой связи рассматривается его отторжение от социально значимых форм и смыслов жизни , эгоизация в контексте приоритетов потребительства, экономоцентризма и вульгарно-рыночного прагматизма. Преодоление «быдлоизации» в этой связи ориентируется на формирование таких ценностей и смыслов жизни человека, которые связаны с приоритетами служения людям, семье, государству и обществу, развитию своей социальной культуры, основ справедливости, защиты жизни, ее социокультурной безопасности. При этом ставятся задачи плодотворного участия каждого человека во всех основных сферах развития общества: в экономике, в политике, социально-бытовом и духовно-культурном развитии, в совершенствовании социально-экологического пространства. На этом фоне обеспечивается выход из сферы доминирующих приоритетов потребительства и гедонизма, экономоцентризма и вульгарнорыночного прагматизма, преодоления идеологем традиционного потребительского стихийноэксплуататорского общества.
Стратегически социологический витализм ориентирует человека на его развитие как субъекта всей системы общественных отношений , всех основных сфер жизни общества. И это при всем том, что развитость этой субъектности может и должна быть по целому ряду объективных причин природного и социокультурного характера у каждого человека чаще различной (и по масштабам, и по приоритетам, и по формам выражения).
Такая постановка проблемы и видение процессов «быдлоизации» человека и общества позволяют видеть, констатировать и профилак-тировать не только эгоистический уклон в развитии этих процессов, но и вульгарно-социальномассовый . Вульгарно-социализированные человек, сообщества людей в этой связи являют собой еще одно направление «быдлоизации», порождаемое грубо-административным обобществлением бытия людей, развитием их сотрудничества.
Основным условием предупреждения и преодоления означенных направлений «быдлои-зации» социологический витализм видит поиск оптимального сочетания личного и общественного в жизни человека, в развитии социума, различных народов и государств. При этом национальные культуры, социокультурный потенциал этих народов и государств, их жизненное пространство, ресурсы жизнеобеспечения определяют специфику поисков и пропорций таких сочетаний с учетом процессов глобализации, унификации, стандартизации социальной жизни. Анализ данной проблематики в современном российском обществе с позиций социологического витализма ориентирует нас в этой связи видеть и еще один очень важный аспект проблемы – оценку влияния на развитие жизненных сил современного человека и общества сочетания в нем революционного и эволюционного, инновационного, трансформационного и социальноисторического, социогенетического. Актуально стоит вопрос о сохранении преемственного, органичного социокультурного развития общества и человека как основы профилактики их «быд-лоизации», деградации, аномального развития, обострения проблем социального здоровья.
История России в ХХ веке убедительно показала, что чрезмерная увлеченность революцио-наризмом, а также инновациями, модернизацией «любой ценой» создает угрозы для жизни наций, народов, государств, отдельных людей, их сообществ. На этом фоне проявляют себя обе из означенных выше тенденций «быдлоизации» населения, когда оно становится жертвой манипуляций массовым обыденным сознанием: и вульгарная эгоизация, и административно-силовая социализация, идеологемы вульгарно-рыночного прагматизма и административного социализма, объединенные потребительством, основанным, в одном случае, на приоритетах прибыли, рынка и предпринимательства, частной собственности, а в другом, – государственного патернализма и доминирующего обобществления.
Обыденное сознание населения СССР – России в ХХ веке испытало влияние и социальных, объективных и технологически манипуляционных факторов и условий, формировавших опережающими темпами и масштабами оба указанных направления «быдлоизации» населения, что не могло не создать их противоречивого сочетания к началу XXI века. Возникла новая с и туация взаимодействия, сочетания идеологем, формирующих быдлоизированное общество и человека парадоксального типа, сочетающего тенденции эгоистической и коллективистской быдлоизации. Опасность и разрушительный характер такой быдлоизации в полной мере еще не получили достоверной оценки ни в науке, ни в политическом и социальном, а также экономическом и эколого-демографическом управлении. Между тем, оно оказывает серьезное влияние на массовость распространения физических, психических и социальных болезней, суицида, пассивности и агрессивности отдельных слоев быдлоизированного населения современной России.
Экспертиза сложившейся ситуации и расчеты основных показателей «быдлоизации» населения на основе принятия им идеологем, представляющих основы односторонних капиталистических и социалистических ориентаций, их противоречивых сочетаний со всей определенностью требуют новых подходов к осмыслению происходящего и прогнозированию будущего. Социологический витализм дает возможность это делать. Но это следующий шаг в нашем исследовании, требующий специального рассмотрения, которое требует анализа качества и уровня жизни людей, человека и общества, безопасности их жизни, основных направлений социального прогресса, его эволюции в XXI веке.
*****
-
1. Григорьев С.И. Основы виталистской социологии XXI века. М.: Гардарики, 2007.
-
2. Словарь виталистской социологии / ред.-сост. С.И. Григорьев. М.: Гардарики, 2006.
-
3. Социология жизненных сил человека и общества: от метафоры к концепции /под ред. С.И. Григорьева, Л.Д. Деминой/. М.: Изд. дом «Магистр-Пресс», 2000.
-
4. Социологический витализм: накопление методологического потенциала и технологических возможностей: материалы Второго Всероссийского социологического конгресса. 2003 г. / под ред. С.И. Григорьева. Москва ; Барнаул: Изд. РНЦ, 2003.
-
5. Григорьев С.И., Демина Л.Д., Растов Ю.Е. Жизненные силы человека. Барнаул, 1995.
-
6. Цуладзе А.М. Политические манипуляции или покорение толпы. М., 1999.
-
7. Ткач В.Х. Охлократия. Между Хутором и Майданом. М., 2008.
-
8. Охлократия // Социологическая энциклопедия. В 2-х томах. Т. II. М.: Мысль, 2003.
-
9. Охлократия // Словарь новейшей социологической лексики / автор-сост. С.А. Кравченко. М.: Изд. «МГИМО – Университет», 2011.
-
10. Осипов Г.В. Социология и общество. Социологический анализ российской смуты. М.: Норма, 2007.
-
11. Тощенко Ж.Т. Общественное сознание и перестройка. М., 1990.
-
12. Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987.
-
13. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М.: Наука, 1990.
-
14. Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века (по материалам международных исследований) / ред. В.Э. Шляпентох, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов. – М., 1999.
-
15. Сознание массовое // Словарь новейшей социологической лексики / автор-сост. С.А. Кравченко. М.: Изд. «МГИМО – Университет», 2011.
-
16. Охлократия // Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персоналии / автор-сост. С.А. Кравченко. М.: Изд. «МГИМО – Университет», 2011.
-
17. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс – традиция, 2000.
-
18. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis, 1994. № 5.
-
19. Луман Н. Понятие риска // Thesis, 1994. № 5.
-
20. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности // Thesis, 1994. № 5.
-
21. Яницкий О.Н. Социология риска. М.: Изд. «ZVS», 2003.
-
22. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
-
23. Риск в социальном измерении / ред. А. Мозговая. М., 2001.
-
24. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. М.: Мысль, 2007.
-
25. Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме: монография. М., 2009.
-
26. Социальное положение и роль русских в современной России: материалы всероссийского экспертного опроса / под ред. С.И. Григорьева. М.: Изд. РГСУ, 2011.
-
27. Социальная эффективность реформ в России XX-XXI веков / ред. С.И. Григорьев. М.: Изд. РГСУ, 2010.
-
28. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Говорухина Г.В. и др. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: уч. пос. М.: Алгоритм, 2011.
-
29. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Изд-во «Эксмо-пресс», 2002.
-
30. Буравой М. Комментарий: за глобальную социологию низших слоев // Социс 2009. № 4.
-
31. Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. Публичная или профессиональная публичная социология? // Социс, 2009. № 4.
Список литературы Виталистская социология быдлоизации – основа научного обеспечения преодоления кризисного развития современного российского общества
- Григорьев С.И. Основы виталистской социологии XXI века. М.: Гардарики, 2007. EDN: QOGTJF
- Словарь виталистской социологии / ред.-сост. С.И. Григорьев. М.: Гардарики, 2006.
- Социология жизненных сил человека и общества: от метафоры к концепции /под ред. С.И. Григорьева, Л.Д. Деминой/. М.: Изд. дом «Магистр-Пресс», 2000.
- Социологический витализм: накопление методологического потенциала и технологических возможностей: материалы Второго Всероссийского социологического конгресса. 2003 г. / под ред. С.И. Григорьева. Москва; Барнаул: Изд. РНЦ, 2003.
- Григорьев С.И., Демина Л.Д., Растов Ю.Е. Жизненные силы человека. Барнаул, 1995.