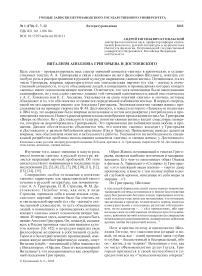Витализм Аполлона Григорьева и Достоевского
Автор: Кунильский Андрей Евгеньевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (170), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - проанализировать весь спектр значений концепта «жизнь» в критических и художественных текстах А. А. Григорьева в связи с влиянием на него философии Шеллинга, показать его особую роль в распространении в русской культуре выражения «живая жизнь». Почвенники, и в их числе Григорьев, впервые характеризуются как «виталистская партия» (от vita - жизнь) в отечественной словесности, то есть объединение людей, в концепциях и произведениях которых концепт «жизнь» имеет основополагающее значение. Отмечается, что хотя почвенники были наследниками славянофилов, но у них слово «жизнь» лишено той этической однозначности, какой оно отличалось у А. С. Хомякова или К. С. Аксакова. Указывается на связь понятий «жизнь» и «почва», которые объединяет и то, что оба понятия отличаются определенной амбивалентностью. В первую очередь, такой взгляд характерен именно для Аполлона Григорьева. Эволюция понятия «живая жизнь» прослеживается на примере творчества Ф. М. Достоевского, в повести которого «Записки из подполья» в 1864 году это выражение было впервые использовано и потом неоднократно употреблялось в произведениях писателя. Повесть рассматривается как своеобразное продолжение поэмы Ап. Григорьева «Вверх по Волге». Но у Достоевского в тезаурус понятия «живая жизнь» входят смысловые элементы, которые не акцентировались Григорьевым. Это гармоничная (не амбивалентная) любовь и прощение. Данное обстоятельство объясняется тем, что понятие «жизнь» восходит у Григорьева и Достоевского к разным библейским архетипам (Ева и Христос). Приведенные выводы делаются впервые, чем обусловлена новизна и актуальность работы. Указывается на необходимость специальной разработки проблемы использования концептов «жизнь» и «живая жизнь» у Достоевского.
Русская литература второй половины xix века, критика а. а. григорьева, творчество ф. м. достоевского, тема жизни, витализм, "живая жизнь"
Короткий адрес: https://sciup.org/14751285
IDR: 14751285 | УДК: 821.161.096189 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.21
Текст научной статьи Витализм Аполлона Григорьева и Достоевского
Цель статьи – проанализировать весь спектр значений концепта «жизнь» в критических и художественных текстах А. А. Григорьева в связи с влиянием на него философии Шеллинга, показать его особую роль в распространении в русской культуре выражения «живая жизнь». Почвенники, и в их числе Григорьев, впервые характеризуются как «виталистская партия» (от vita – жизнь) в отечественной словесности, то есть объединение людей, в концепциях и произведениях которых концепт «жизнь» имеет основополагающее значение. Отмечается, что хотя почвенники были наследниками славянофилов, но у них слово «жизнь» лишено той этической однозначности, какой оно отличалось у А. С. Хомякова или К. С. Аксакова. Указывается на связь понятий «жизнь» и «почва», которые объединяет и то, что оба понятия отличаются определенной амбивалентностью. В первую очередь, такой взгляд характерен именно для Аполлона Григорьева. Эволюция понятия «живая жизнь» прослеживается на примере творчества Ф. М. Достоевского, в повести которого «Записки из подполья» в 1864 году это выражение было впервые использовано и потом неоднократно употреблялось в произведениях писателя. Повесть рассматривается как своеобразное продолжение поэмы Ап. Григорьева «Вверх по Волге». Но у Достоевского в тезаурус понятия «живая жизнь» входят смысловые элементы, которые не акцентировались Григорьевым. Это гармоничная (не амбивалентная) любовь и прощение. Данное обстоятельство объясняется тем, что понятие «жизнь» восходит у Григорьева и Достоевского к разным библейским архетипам (Ева и Христос). Приведенные выводы делаются впервые, чем обусловлена новизна и актуальность работы. Указывается на необходимость специальной разработки проблемы использования концептов «жизнь» и «живая жизнь» у Достоевского. Ключевые слова: русская литература второй половины XIX века, критика А. А. Григорьева, творчество Ф. М. Достоевского, тема жизни, витализм, «живая жизнь»
Изучение того, какое значение и какую роль имело понятие «жизнь» в русской культуре, является назревшей научной проблемой. Об этом свидетельствуют появившиеся в последние годы исследования [2], [3], [4], [5], [7], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].
Совершенно особое отношение к понятию «жизнь» характерно для представителей такого течения в русской литературе, как почвенничество: А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова, Ф. М. Достоевского. Подобно тому, как они, в лице Страхова, признали себя в конце концов « пушкинскою » партией1, можно было бы считать их и «виталистской партией» (от vita – жизнь) в отечественной словесности, то есть объединением людей, в концепциях и произведениях которых концепт «жизнь» имеет основополагающее значение. И первым здесь, конечно же, должен быть назван Аполлон Григорьев. Он, пожалуй, сильнее всех в России проникся «шеллингианским культом жизни» [16: 452] и по-русски выразил свои философские воззрения в собственной судьбе. Героя его беллетристических произведений, имеющих явную автобиографическую основу, зовут Виталин (vitalis – жизненный) («Мое знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина»2), что воспринимается как своеобразный псевдоним Григорьева.
Образ Жизни, возникающий в текстах Григорьева, является наиболее поэтичным и завораживающим. Его чем-то напоминает образ Океана в фильме А. Тарковского «Солярис» (у Григорьева: «этот кипящий океан жизни» – «нечто даже ироническое, а вместе с тем полное любви в своей глубокой иронии, изводящее из себя миры за мирами…»3).
По Григорьеву, Шеллинг в последней формации своей единственно мироохватывающей системы остановился в немом благоговении пред безграничною бездною жизни, порешивши логический гегелизм тоже простым положением, что потенция, заключенная в пределах человеческого черепа, конечно, односущественна с потенциею, разлитою в безграничном, но не адекватна <…> ей в проявлениях, ибо правильные сами по себе выводы потенции при столкновении с веяниями вечной жизни подвергаются совершенно неожиданным видоизменениям, подвергаются действию иронии любви безграничной жизни…4
Поэт и критик потому и предпочитал Шеллинга Гегелю, что «шеллингизм (старый и новый, он ведь все – один) проникал меня глубже и глубже – бессистемный и беспредельный, ибо он – жизнь, а не теория»5. Вспоминая о том, как он читал «Феноменологию духа» Гегеля, Григорьев признается в своей неспособности сосредоточиться на «“психологических очерках”
немецкого “хера профессора”», потому что «<…> жадно начинает душа просить жизни, жизни и все жизни…»6.
Для меня «жизнь», – писал Григорьев, – есть действительно нечто таинственное, т. е. потому таинственное, что она есть нечто неисчерпаемое; «бездна, поглощающая всякий конечный разум», по выражению одной старой мистической книги – необъятная ширь, в которой не редко исчезает, как волна в океане, логический вывод какой бы то ни было умной головы <…>7.
Но для Ап. Григорьева жизнь это не только тайна и бездна, то есть что-то бесформенное, стихийное и непознаваемое. У него, как и у Ницше затем, происходит очеловечение этого понятия, жизнь становится богом, идолом, в который можно верить, влюбляться, которому можно поклоняться. Себя он относит к людям, «<…> верующим в жизнь, философию, искусство и национальность <…>» (2: 305). Заметим, что среди перечисленных объектов веры Бог отсутствует. И к Христу, как мы понимаем, по крайней мере какое-то время, отношение было отрицательным. Как говорится в стихотворении, написанном в его «масонский» период: «Тщетно на распятье обращен мой взор, На устах проклятье, на душе укор» (С тайною тоскою… 1846?) (1: 77). В такой ситуации утраты религиозной веры Жизнь превращается в бога или, скорее, богиню:
Кого любить? Кому верить? Жизнь любить – и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в мыслях, внимать голосам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы, разоблачает свои новые тайны и разрушает наши старые теории… (2: 222).
Совершенно неслучайно именно Аполлон Григорьев популяризировал выражение «живая жизнь» в начале 60-х годов. Его использовали в русской литературе уже с конца 20-х годов (Н. Языков, Н. Гоголь, К. Аксаков, И. Аксаков, Ю. Самарин, В. Одоевский, А. Герцен), но не так часто, подчас в переписке. А Ап. Григорьев упоминает «живую жизнь» чуть ли не в каждой из своих статей, которые он публикует в 1861 году в журнале братьев Достоевских «Время». Журнал стал органом нового течения, получившего название почвенничества. Почвенники были наследниками славянофилов, но у них слово «жизнь» лишено той этической однозначности, какой оно отличалось у А. Хомякова или К. Аксакова. «Жизнь» и «почва» – это неразлучные понятия, и оба отличаются определенной амбивалентностью. По крайней мере – у Ап. Григорьева.
Русское слово «почва» является переводом немецкого Grund (почва, грунт; дно; фон; основание, причина). В философии Шеллинга, как объяснял в XIX веке Н. Н. Ланге, так обозначается некая «основа бытия», некоторая «природа в Боге». «Будучи волею к жизни, она внушает и человеку личную любовь к жизни и к инди- видуальному самосохранению во что бы то ни стало, а следовательно, и сопротивление мировой гармонии». В то же время «“Grund” – это не просто темная основа бытия, это еще и влечение, которое побуждает вечно Единое, т. е. Бога, порождать само себя. Это “основа” – не есть Единое, Бог, однако она так же вечна, как Единое» [16: 159–161]. Для Ап. Григорьева очень важна была эта присущая почве, а вместе с ней и жизни причастность Богу и одновременно сопротивляющаяся Ему сила, обеспечивающая развитие и побуждающая Бога снова и снова порождать самого себя. Как ничто другое этому комплексу представлений соответствовало выражение «живая жизнь».
В № 2 журнала «Время» за 1861 год публикуется статья Ап. Григорьева «Народность и литература». Автор выступает в ней против отвлеченности, теоретичности взглядов у представителей двух основных направлений в современной ему отечественной культуре – западников и славянофилов. «Западничество с готовыми мерками, со взятыми напрокат данными приступило к живой жизни». Но и славянофилы, «<…> отвечая на теорию западничества, постоянно завлекались тоже в теорию, которая, в сущности, как и всякая теория, мало уважала живую жизнь»8. Обратим внимание на то, что Ап. Григорьев для критики славянофилов использует выражение, которое во многом именно благодаря им обрело право гражданства в русской литературе. Теперь же они обвиняются в недостаточном уважении к «живой жизни».
Для Ап. Григорьева одним из проявлений «живой жизни» является искусство, поэтому ему противопоказан дидактизм. Хотя Л. Мей был его приятелем, но о его драме «Псковитянка» критик тем не менее написал: «Перед вами нет живых лиц и живой жизни: вместо них фигуры с ярлыками на лбу»9 (Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. II. «Псковитянка», драма Л. Мея. 1861).
«Теории» Ап. Григорьев предпочитает «идеал» как не противоречащий «живой жизни»:
Когда идеал лежит в душе человеческой, признается за нечто вечное, неизменное, всегда и во все времена ей одинаково присущее – он не требует никакой ломки фактов живой жизни; он ко всем равно приложим и все равно судит10 (Белинский и отрицательный взгляд в литературе // Время. 1861. № 4. Апрель).
В статье «Оппозиция застоя: Черты из истории мракобесия» (Время. 1861. № 5. Май) Ап. Григорьев касается вопроса об отношениях между религией и светской культурой. Он критикует тех журналистов (прежде всего из таких изданий, как «Домашняя беседа» и «Маяк»), которые о театральных и литературных произведениях судят с жестких позиций и обвиняют их авторов в антихристианстве. Ап. Григорьев сравнивает борьбу с театром у представителей раннего христианства и современных ему ревнителей благочестия: «Одним словом, это была борьба духа с плотью, с мертвою, отжившею и извращенною буквою, тогда как у наших мраколюб-цев, стало это – борьбою мертвой буквы против живой жизни». Ограниченной, пуристской позиции «Маяка» («<…> он, чем дальше шел, тем больше и больше расходился с живою жизнью»11) в статье противопоставляется направление славянофильского «Москвитянина»: «Оно верило в живую жизнь, и неслось по ее волнам, нередко с илом и тиною»12. Заметим: мутные волны жизни – очень характерный для Григорьева образ.
Дважды выражение «живая жизнь» появляется у Ап. Григорьева в статьях, посвященных творчеству Л. Н. Толстого. В первом случае оно связывается с понятиями «род» и «община», которые были предметами дискуссий между западниками и славянофилами (оппоненты, так сказать, писали одно из этих слов на своих знаменах). Григорьев полагает, что споры не были бы столь горячими, «<…> если бы корнями своими эти “ученые” понятия не врастали в живую жизнь, не определяли бы так или иначе ее значение в прошедшем, настоящем и будущем»13 (Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. 1862).
Высокое, светское происхождение писателя не закрывает для него возможности чувствовать и изображать «живую жизнь»:
<…> становится понятным, когда читаешь этюды Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность». – А. К. ), каким образом, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила в себе живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже с нею отождествляться (2: 368–369) (Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая // Время. 1862. № 9. Сентябрь).
В использовании Аполлоном Григорьевым понятия «живая жизнь» обращает на себя внимание отсутствие жесткой идеологической или социальной привязки. «Живая жизнь» проявляется и в быту, и в литературе, в народном бытии, и в существовании высших сословий, в спорах представителей противоположных идейных направлений, в христианской практике, и в сфере театральной. Единственное, что ей противопоказано, – это формализация, регламентация, теоретическое засушивание. В «живой жизни» всегда сохраняется элемент непредсказуемости, противоречивости, «соринки», подчеркивающий ее живой, а не искусственный характер. В стихах Ап. Григорьева дух жизни может быть назван «лукавым»:
Не отдавайся тайным мукам, Когда лукавый жизни дух Тебе то образом, то звуком Волнует грудь и дразнит слух!
Не отдавайся… С ним опасно, Непозволительно шутить… Он сам живет и учит жить Полно, широко, вольно, страстно!
25 января 1858 (1: 124) (Импровизации странствующего романтика. Больная птичка запертáя…).
«Лукавый жизни дух» Ап. Григорьева, конечно же, это не совсем то, что «дух жизни» А. Хомякова, который заключает в себе начало христианской свободы и веры, но скрывается именно в «былом» или в «грядущих днях», а не здесь и не сейчас. Так, обращаясь к России, Хомяков восклицал:
О, вспомни свой удел высокой!
Былое в сердце воскреси И в нем сокрытого глубоко Ты духа жизни допроси!14 («России», 1839).
Если сравнивать представление о «жизни» в приведенных текстах Григорьева и Хомякова, то можно сказать, что здесь сталкиваются два образа Жизни: ветхозаветный – Ева («жизнь») и новозаветный – Иисус Христос («Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)). Как сказал бы Лев Толстой, это «плотское животное существование» и «жизнь, подчиненная своему закону разума и выражающаяся в любви»15. Но Ап. Григорьев вряд ли согласился бы с Хомяковым и Толстым, посчитав их восприятие жизни очередной «теорией», в которой от жизни не остается ничего. Он не боялся соприкосновения с проявлениями плотской, грешной жизни и отвечал М. П. Погодину, который упрекал его в приверженности к «злачным» местам: «<…> из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или лучше чутьем жизни, с неистощимою жаждою жизни» (2: 384)16. «Необходимость реабилитации “жизни” у Григорьева» [1: 24] проявляется в оправдании вольного обращения с законом в чиновничьей практике – и это в эпоху «обличительной» литературы! Вернее, новому, ученому поколению канцеляристов-теоретиков он противопоставляет простое, старое, более близкое к жизни: «<…> чиновники эксплуатируют жизнь ради абстрактного и темного для нас, точно так же как и для всех, божества, называемого законом, а подьячие эксплуатируют темный для всех, но не для них закон в пользу живой жизни…»17. Однако говорить в связи с этим о «моральной двусмысленности» у Григорьева было бы столь же неверно, как и в случае с Достоевским [17].
Образ «живой жизни» из статей Ап. Григорьева 1861–1862 годов перекочевал в его стихи. В поэме «Вверх по Волге» (1862) автор, описав страстное свидание с возлюбленной, спрашивает своего учителя М. П. Погодина, может ли тот дать этому название (отрицательный ответ очевиден):
Ведь это не вопрос норманской, Не древность азбуки славянской, Не княжеских усобиц ряд…
В живой крови скальпéль потонет, Живая жизнь под ним застонет, А хартии твои молчат,
Неловко ль, ловко ль кто их тронет (1: 237).
(Вверх по Волге: Дневник без начала и без конца (Из «Одиссеи о последнем романтике»). 1862).
Повесть Достоевского «Записки из подполья» (1864) была своеобразным продолжением поэмы Ап. Григорьева «Вверх по Волге». Неслучайно она вызвала одобрение критика. Позднее в письме к Н. Н. Страхову Достоевский вспоминал «слова Ап. Григорьева, похвалившего мои “Записки из подполья” и сказавшего мне тогда: “Ты в этом роде и пиши”»18. Видимо, Ап. Григорьев нашел здесь нечто близкое себе, своему представлению о жизни.
В обоих произведениях изображены отношения героя с падшей женщиной, заканчивающиеся разрывом. И в поэме, и в повести представлена амбивалентность страстей, владеющих человеком. Но у Достоевского, впервые в своей практике использовавшего здесь выражение «живая жизнь», в тезаурус данного понятия входят смысловые элементы, которые не акцентировались Григорьевым. Это гармоничная (не амбивалентная) любовь и прощение.
Герой «Записок из подполья» именно потому, что «от “живой жизни” отвык», представляет любовь лишь как борьбу, завоевание и не знает, «что делать с покоренным предметом». Любовь Лизы вызывает его на то, чтобы покончить с привычным для него одиночеством, к чему он не готов (интимофобия). «“Живая жизнь” с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно» (V: 176). Кстати заметим: эта антропоморфность «живой жизни» (которая может «придавить» человека-партнера) снова позволяет говорить о связи между мировосприятиями Достоевского и Ап. Григорьева (у него «живая жизнь» стонет под скальпелем).
После того, как Лиза оставила его, герой не дает хода проявляющейся в нем жажде раскаяния. «Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части <…>» (V: 177). Но «подпольный» не верит в прочность своего раскаяния, он дитя века сомнения и душевной перверсии и предпочитает рассуждать о возвышающей силе ненависти, а не любви: «оскорбление возвысит и очистит ее… ненавистью… гм… может и прощением» (V: 178). Реальная возможность полюбить и простить и быть прощенным пугает, потому что не вписывается в привычные для развитого человека XIX века представления о войне каждого против всех и о любви-ненависти, которая не сближает, а еще больше разделяет.
<…> Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше (V: 178)19.
Представляется, что это можно считать не только упреком оппонентам Достоевского из лагеря теоретиков-социалистов, но и своеобразным комментарием к истории отношений Аполлона Григорьева и М. Ф. Дубровской, отразившейся в поэме «Вверх по Волге».
Концепту «живая жизнь» было суждено большое будущее в дальнейшем творчестве Достоевского. При всем своеобразии его понимания писателем выражение это наследовало «григорьевскую» неоднозначность, препятствующую превращению в клише. Для того чтобы описать весь спектр значений понятия «живая жизнь» у Достоевского, потребуется специальная большая работа. Укажу здесь на несколько случаев, два из которых чаще всего фигурируют в работах о Достоевском, а остальные незаслуженно оставляются без внимания. В романе «Подросток» Версилов говорит, что живая жизнь – это
<…> должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая (XIII: 178).
В первой главе декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год предлагается «окончательная формула» «живой жизни»: «Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» (XXIV: 49–50).
Как уже было сказано, приведенные два примера наиболее популярны у достоевсковедов. Но есть и другие, не менее интересные. В подготовительных материалах к роману «Подросток» появляется выражение «публика и ее живая жизнь», и эта «живая жизнь» в ценностном плане представляет собой нечто менее значительное, чем «настоящий героический тип», который собирается создать Достоевский (XVI: 7). Героический, он же «хищный», тип испытывает «страстную и неутомимую потребность наслаждения жизнью, живою жизнью <…>» (XVI: 39). Здесь же Васин говорит, «что живая жизнь (сила) вне центра» (XVI: 233), что заставляет вспомнить выступления виталиста Ап. Григорьева против «централизаторов»20.
Это только некоторые случаи бытования концепта «живая жизнь» в текстах Достоевского, заслуживающие того, чтобы серьезно заняться их истолкованием и систематизацией – конечно же, подразумевающей некую смысловую свободу и неполную выразимость.
Kunil’skiy A. E., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)
Список литературы Витализм Аполлона Григорьева и Достоевского
- Страхов Н. Н. Литературная критика. М.: Современник, 1984. С. 176.
- Григорьев Аполлон. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1.
- Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 139.
- Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980. С. 301
- Время. 1861. № 4. Апрель. Критическое обозрение. С. 26
- Время. 1862. № 1. Критическое обозрение. С. 19.
- Хомяков А. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1969. С. 112.
- сочинение «О жизни»: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 17. С. 130.
- Воспомиания Аполлона Григорьева/Ред. и коммент. Р. В. Иванова-Разумника. М.; Л.: Academia, 1930. С. 338.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. XXIX/1. С. 32.
- Авдеева Л. Р. Русские мыслители: Ап. А. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. Философская культурология второй половины XIX века. М.: Изд-во МГУ, 1992. 195 с.
- Архангельская Р. В. Проблема ценности жизни в философии жизни//Философия ценностей: Материалы российской конф. (Курган, 15-16 апреля 2004 г.). Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. Вып. 2. С. 106-108.
- Баранов С. Т., Золотарева Т. А. «Живая жизнь» Ф. М. Достоевского и «жизненный мир» Э. Гуссерля в плоскости дискурса повседневного сознания//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 10-1 (84). С. 21-24.
- Богданова О. А. «Живая жизнь»: идеал женщины и проблема красоты в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»//Знание. Понимание. Умение. М., 2008. № 4. С. 78-82.
- Дрошнева Н. В. Два пути к одной цели: «жизнь» в западноевропейской и русской философской традиции XIX-XX веков//Философия и социальная теория: Сб. науч. трудов. М.: Полиграф-Информ, 2003. Вып. 1. С. 103-121.
- Дудкин В. В. Достоевский -Ницше: (Проблема человека). Петрозаводск: Изд-во КГПИ, 1994. 153 с.
- Евлампиев И. И. «Записки из подполья» Ф. Достоевского: «живая жизнь» против «мертвой жизни»//Соловьевские исследования. Иваново, 2011. № 3 (31). С. 25-46.
- Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев-критик. Ст. 1//Ученые записки Тартуского государственного университета. 1960. Вып. 98. С. 194-246.
- Кунильский А. Е. «Жизнь» в структуре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»//Жанр и композиция литературного произведения: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1981. С. 55-66.
- Ку нильский А. Е. Источники витализма в русской литературе первой половины XIX века//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2016. № 7-1 (160). С. 100-104.
- Кунильский А. Е. Витализм в русской литературе первой половины XIX века//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 1 (162). С. 55-60.
- Кустовская М. А. Изучение художественной системы Ф. М. Достоевского сквозь призму концепции «живой жизни»//Антикризисный потенциал русской интеллектуальной культуры: Сб. науч. трудов/Научный редактор -проф. В. П. Океанский. Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ГОУ ВПО «ШГПУ», 2011. С. 96-116.
- Кустовская М. А. Концепция «живой жизни» в творчестве Ф. М. Достоевского//Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2011. Т. 9. С. 169-179.
- Кустовская М. А. «Живая жизнь» в публицистике Достоевского//Достоевский и журнализм. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 268-279.
- Петренко Д. И. «Живая жизнь»: тексты Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в виталистическом осмыслении В. В. Вересаева//Textus. Ставрополь, 2014. Т. 14. № 14 (14). С. 202-211.
- Философия Шеллинга в России. СПб.: Изд-во Русского Христианского ин-та, 1998. 528 с.
- Davidson R. M. Moral Ambiguity in Dostoevski//Slavic Review. 1968. Vol. XXVII. No 2. June. P. 313-316.