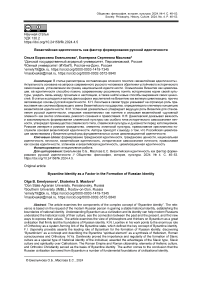Византийская идентичность как фактор формирования русской идентичности
Автор: Емельянова О.Б., Маслова Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены составляющие сложного понятия «византийская идентичность». Актуальность основана на запросе современного русского человека в обретении устойчивого исторического самосознания, установлении им границ национальной идентичности. Осмысление Византии как цивилизации, её идентичности способно помочь современному россиянину понять исторические корни своей культуры, увидеть связь между прошлым и настоящим, а также найти новые способы выражения своих ценностей. В статье исследуется взгляд философов и мыслителей на Византию как великую цивилизацию, прочно заложившую основы русской идентичности. К.Н. Леонтьев в своём труде указывает на огромную роль православия как системообразующего звена Византийского государства, определившего ключевую концепцию византийской идентичности. Ф.И. Успенский доказательно утверждает ведущую роль Византии для становления русской идентичности, открывая «византинизм» как понятие и описывая византийский «духовный элемент» как синтез эллинизма, римского сознания и православия. Н.Я. Данилевский доказывал важность и закономерность формирования славянской культуры как особого типа исторического самосознания личности, утверждал преимущества славянского типа, славянской культуры и духовности перед католицизмом. Римская империя и римское гражданство, элементы эллинской культуры, православное христианство послужили основой византийской идентичности. Авторы приходят к выводу о том, что Российская цивилизация заимствовала у Византии целый ряд фундаментальных основ цивилизационной идентичности.
Формирование гражданской идентичности, гражданские ценности, национальная идентичность личности, византийская идентичность, историческое самосознание личности, православие как основа идентичности, эллинизм и византийская идентичность, цивилизационная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145376
IDR: 149145376 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.5
Текст научной статьи Византийская идентичность как фактор формирования русской идентичности
2Южный университет (ИУБиП), Ростов-на-Дону, Россия , ,
,
,
Актуальность проблемы . Вопросы изучения личностной идентичности в рамках современной гуманитаристики актуализируются необходимостью осмыслить то, как личность взаимодействует с обществом, как формируется ее идентичность и какие факторы на нее влияют. Исследования в этой области помогают лучше понять индивидуальные особенности человека XXI столетия, его мотивации, ценности и поведение. Кроме того, изучение идентичности человека прошлого в рамках социальных процессов позволяет более глубоко понять динамику современного общества и его развитие.
В этом контексте изучение византийской идентичности сегодня актуализирует проблему обретения устойчивого исторического самосознания современного русского человека, границ его национальной идентичности. О Византии как о великой цивилизации, прочно заложившей основы русской идентичности, в том числе и православия, с восхищением, свойственным истинным патриотам, высказываются современные исследователи. Так, например, А. Лидов утверждает, что «вся наша культура и история своими корнями уходят в византийскую традицию»1. Подобная мысль высказана также П. Кузенковым: «Византийская империя во многих отношениях была предшественницей России в духовном, культурном и политическом плане»2.
Осмысление Византии как цивилизации3, её идентичности способно помочь современному россиянину понять исторические корни своей культуры, увидеть связь между прошлым и настоящим, а также найти новые способы выражения своих ценностей. Византийская идентичность, как явление философское, может способствовать осознанию новых перспектив социальных отношений, построению нравственного общества, что сегодня является наиболее востребованной идеей в рамках существующих задач нашего государства.
Методологическую основу исследования составили труды по изучению византийской идентичности Г.Г. Литаврина, И.Ю. Ващевой, Г.В. Скотниковой, анализ вопросов цивилизационной идентичности личности А.Ф. Поломошнова, З.А. Жаде (2007), А. Лидова, Н.В. Дмитриева, Д.С. Бирюкова (2022). И конечно, мы опираемся на идеи великих мыслителей, философов, историков: К.Н. Леонтьева, Ф.И. Успенского, Н.Я. Данилевского. Теоретическому осмыслению материала способствовал общенаучный метод аксиоматического подхода, а также методы сравнительного анализа и синтеза.
Мыслители о византийской идентичности . Общеизвестно, что мыслители ещё в XIX в. спорили о роли Византии в формировании идентичности российского общества и человека. Так, между западниками и славянофилами возникли серьёзные споры о влиянии Византии на русскую идентичность. «Для “западников” Византия представлялась оплотом всего косного и отсталого» (Бороздин, 1956: 272). Вспомним известное высказывание западника П.А. Чаадаева из «Философического письма», которое стало началом большого обсуждения мыслителей прошлого: «По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов» (Чаадаев, 1991: 331). На это достаточно острое критическое высказывание был дан ответ славянофилов. А.С. Хомяков писал: «… говорить о Византии с пренебрежением – значит расписываться в невежестве» (Хомяков, 1900: 366). Т.Н. Грановский отмечал так же: «Мы приняли от Царьграда лучшую часть народного достояния нашего, т. е. религиозные верования и начатки образования» (Грановский, 1956: 377).
Значительный вклад в понятие «византизм», а значит, собственно, и в понятие «византийская идентичность», внёс К.Н. Леонтьев (1831–1891). Он создал исследование, которое «написал после полутора года общения с афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской и духовной борьбы с самим собою» (Леонтьев, 1993: 318). Ключевая философская цель этого исследования – анализ базовых ценностей культуры России, пришедших из пра- вославной Византии. Идеи о ценности Византии как государства, наиболее повлиявшего на формирование культурного кода, идентичности русского человека, изложенные К.Н. Леонтьевым, были в корне противопоставлены тем высказываниям современных мыслителю идеологов, которые резко и негативно отзывались о Византии. Речь идёт о так называемом «европейском взгляде» (Скотникова, 2022: 114), идущем ещё от исследователей эпохи Просвещения (Монтескье, Вольтер, Гиббон), которые, общеизвестно, с высокомерной брезгливостью отзывались о Византии как о варварской и презренной стране. «Клеймо позора и презрения» (Спасский, 1902) с Византии К.Н. Леонтьев своим трудом метафорически смыл, открыв огромную роль православия как системообразующего звена Византийского государства, определившего ключевую концепцию византийской идентичности. К.Н. Леонтьев указал на двойственность Византийского мировосприятия, которое наибольшим образом оказало влияние на византийскую идентичность, так называемую «симфонию властей» (Лебедева, 2001: 55). С одной стороны, это Римское языческое понимание мира, а с другой – это православие: «Православие и Православием освященное Самодержавие наше и получило наименование “византизм”», – писал он (Леонтьев, 2016: 78). Таким образом, для понимания византийской идентичности роль трудов К.Н. Леонтьева чрезвычайно высока: он утвердил Византию, и соответственно, византийский тип личностной идентичности не как логическую сцепку, а затем угасание Римской империи, а как уникальную разновидность культурного сознания, основанного на православии.
Особой ценностью для осмысления уникальных глубин православия, а значит, национальной идентичности, обладают те страницы изысканий К.Н. Леонтьева, в которых он даёт анализ духовных скреп православия и их отличий от ценностей Западной Европы. Он называет высшей ценностью «спасение души человеческой», и отмечает, что «…православное сознание и мироощущение не ищет построить рай на земле, искоренить раз и навсегда грех. Стремясь к Небу и благодатно преображая жизнь, оно чуждается, не воспринимает идею всеобщего земного благоденствия» (Леонтьев, 1995: 231). Позиция К.Н. Леонтьева, по сути, раскрывающая исконную русскую идентичность, и сегодня звучит актуально и значимо: «Вливайте в сосуд Православия утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и только, и вы будете правы» (Леонтьев, 2018: 348). «Я верю, что в России будет пламенный поворот к Православию, прочный и надолго… Я верю этому, потому что у русских болит душа…» (Леонтьев, 1995: 229).
Глобальным для определения византийской идентичности как прототипа идентичности русской, великого значения России в мировой истории стал труд академика Ф.И. Успенского (1845–1928) «История Византийской империи» (1996). Вклад Ф.И. Успенского в деле объективного возвеличивания роли Византии для становления русской идентичности высоко оценен современными исследователями: «Для Ф.И. Успенского Византия была не просто предметом научных занятий, но историко-культурным феноменом, неразрывно связанным с национальным строем души и мысли» (Скотникова, 2022: 115). Ф.И. Успенскому было важно донести мысль об огромном значении Византии в становлении русской истории, в определении пути развития Русской государственности, неповторимого национального содержания русской идентичности.
В труде Ф.И. Успенского понятие «византийская идентичность» как термин, конечно, не используется. Однако в тексте автор многократно употребляет фактически синонимичные слова – «воззрение» и, главное, понятие «византинизм», которое характеризует как «совокупность всех начал, под влиянием которых постепенно реформировалась Римская империя в V–VIII вв., прежде чем преобразоваться в Византийскую империю» (Успенский, 2011). Автор поясняет, что в понятие «византинизм» он вкладывает множество смыслов как позитивных, так и негативных. Негативный смысл, приписываемый византизму его критиками, таков: «эпитет “византийский” ... характеризует хитрость, коварство, неискренность, лицемерие, а также самомнение, дерзость и тщеславие и т. п. несимпатичные качества…» (Успенский, 2011).
Сам Ф.И. Успенский подчеркивает позитивный смысл византизма. Для него всё, что предшествовало «византинизму», ассоциируется с варварской психологией, противопоставлено всему духовному, глубоко нравственному. «Византинизм», по автору, – это ещё и «святая вера». Он утверждает, что византийский «духовный элемент» опирается на три столпа: (1) эллинскую идентичность, как выражался учёный, «эллинские философские воззрения», «остатки античной образованности» (Успенский, 2011); (2) римское самосознание или, по мысли автора трактата, «римское воззрение»; и главное, (3) на Православие: «Церковь есть прямая продолжательница в церковной области политических преданий византинизма» (Успенский, 2011).
Созвучен идеям К.Н. Леонтьева и Ф.И. Успенского труд российского историка и философа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». «Не случайно во всём мире Н.Я. Данилевского называют «апостолом Славянства», а его книгу … – «всеславянской Библией» (Данилевский, 2017: 5). В исследовании Н.Я. Данилевского глава XIV «Царьград» посвящена Византии и, в частности, значе- нию Константинополя как центра православия, «сосредоточия великих исторических воспоминаний», «духовных соков» (Данилевский, 2017: 363). Особый интерес для нас в рамках изучаемой темы представляют страницы, посвященные отличию православия от католицизма как одного из устоев идентичности и роли православия в формировании российской цивилизации. Ключевая цель автора – доказать важность и закономерность формирования славянской культуры как особого типа исторического самосознания личности. Для этого ему необходимо было показать, помимо значительного исторического материала, преимущества славянского типа и культуры, а также духовности перед католицизмом.
Ключевые различия между православием и католицизмом как двумя основными христианскими конфессиями Н.Я. Данилевский выделял на основе анализа разнообразного материала: непосредственно исторических фактов, а также сопоставление культур, в том числе разнообразных произведений искусства как отражения типического в идентичности народов. Он считал, что православие отражает «славянский культурный тип» (Данилевский, 2017: 466) и отличается от католицизма своей более духовной и мистической природой, в то время как католицизм склонен к рационализму и централизации власти в лице папы: «Главный поток всемирной истории начинается двумя источниками … Один, небесный, божественный, через Иерусалим, Царьград, достигает в невозмущенной чистоте до Киева и Москвы; другой – земной, человеческий … течёт мимо Афин, Александрии, Рима в страны Европы» (Данилевский, 2017: 467). Критическому анализу автора подвергнут надменный взгляд европейцев на другие народы как наследие их исторического воспитания.
Н.Я. Данилевский также подчеркивал роль православия в формировании российской цивилизации. Он считал, что оно имело ключевое значение в сохранении и укреплении духовных и культурных традиций России, способствовало формированию единого национального самосознания и обеспечивало стабильность и единство страны. Православная идентичность русского человека – опора для всех православных народов, основа нравственности и культуры русского общества.
Как видим из исследований учёных, сложное и многозначное понятие «византийская идентичность» включало в себя несколько ключевых аспектов, которые формировались в течение веков.
Концепция Римской империи и её влияние на Византийскую идентичность . Византийский культурный контекст строился на политической почве Римской империи и римской идентичности. Византийцы идентифицировали себя как римлян, называя собственную национальность Ρωμαῖοι (ромеи). Данный концепт заключал всё многообразие традиционных римских устоев и идейно-нравственные предпочтения. Узаконенный общепринятый топоним «государство римлян» утверждал для византийцев идею слияния собственного «я» с Римской империей. На это указывала и государственная управленческая структура, например именование высшей верховной должности по римской кальке – «император/самодержец римлян». Всё это утверждает тесную связь византийской идентичности с римским каноном: «византийцы в целом весьма последовательно, по крайней мере, до XIII в., называли себя «ромеями» (римлянами), а свою империю – «Романией», то есть Римской державой ... Романия воплощала собою «царство Божье» на земле, ее глава мыслился как неоспоримый суверен христианской ойкумены, а его подданные – как избранный народ, которому предопределено свыше управлять другими народами» (Литаврин, 1999: 591).
Таким образом, для византийцев их идентичность была прочно связана с идеей принадлежности к Римской империи, римскому наследию и, прослеживая эту преемственность, они стояли за сохранение и продолжение римских ценностей, традиций, культуры.
Исследование византийской идентичности позволяет нам лучше понять менталитет византийского общества, которое формировалось не только через верность христианству, но и через близость идеологии Римской империи и римской самоидентификации, что играло значительную роль в формировании и сохранении византийской культуры и государственности.
Прямая связь с Римской империей, как одной из ключевых основ византийской идентичности, характерна и для российской державности, которая нашла свое отражение в доктрине Москвы как Третьего Рима. Суть ее в том, что Москва, будучи преемницей Константинополя («второго» Рима) и непосредственно «первого» Рима, наследницей Римской империи и Византии, после падения Константинополя в 1453 г., стала так называемым «Третьим Римом», центром и оплотом православного мира. Эта доктрина была разработана Филофеем (1465–1542), старцем Псковского Елеазарова монастыря, в письмах к великому князю Василию Третьему Иоанновичу и его дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину, а затем развита русскими мыслителями и историками в XVI–XVII вв. Идея о том, что Москва стала новым центром православного мира и наследницей древних Рима и Византии, подчеркивала особую миссию России как защитницы православия и православной цивилизации. Доктрина третьего Рима, широко распространенная в русской культуре и политической мысли, влияла на формирование русской идентичности и самосознания.
Как видим, Византийская империя претендовала на преемственность и связь с древними римскими традициями и ценностями. Олицетворением этой связи стали латинский язык, правовые нормы и ритуалы, которые вплетались в византийскую культуру. Всё это было важными элементами в формировании и развитии византийской идентичности.
Эллинизм и Византийская идентичность . Византийская культура «является прямой наследницей древнегреческой культуры»1 (Лидов, 2010). Первым и наиболее значимым аспектом в ранневизантийский период был «эллинизм», который составляла система paideia (пайдейя), игравшая важную роль в указанный период и являющаяся существенным элементом эллинской культуры. Это была не просто система образования, а скорее, целостная система воспитания, охватывающая формирование личности, ценностей и нравственности. Она включала в себя не только обучение и приобщение к знаниям, но также философию, нравственность и законы в аристотелевском понимании. Пайдейя была ключевым инструментом для формирования общества и индивидуальности личности, а также для обеспечения их счастья и благополучия. Она не ограничивалась территориальными или этническими границами и способствовала формированию культурной идентичности византийского мира: «Вне зависимости от конкретных различий между учениями Ксенофонта, Сократа, Платона или Аристотеля, paideia является существенным элементом эллинской культуры, исключительно важным и в формировании индивидуальной личности, и в воспитании всего общества» (Ващева, 2016: 41).
Ещё одна интересная особенность проявления византийской идентичности через эллинизм, в частности ее культурной составляющей, – мимесис – «сознательное и целенаправленное подражание византийских писателей нормам и образцам античной литературы» (Ващева, 2016: 28), что могло быть способом сохранения и передачи ценностей, традиций классической культуры. Византийская литература часто рассматривалась через призму античных стандартов, поэтому ее оригинальность оставалась недооцененной. В византийской мысли и литературе можно увидеть не только отрицание античной (языческой) культуры, но и активное использование, а также трансформацию её традиций. В раннем христианстве часто наблюдается явное осуждение языческой культуры и философии как противоположных ее ценностям. Однако с развитием христианства и формированием новых культурных систем происходило взаимодействие и слияние различных элементов античной и христианской традиций.
Византийский эллинизм, с точки зрения осмысления идентичности, отражает то, как понимали и характеризовали христианские мыслители античное или языческое прошлое. Византийские авторы активно использовали наследие античной культуры, философии и литературы, приспосабливая его под христианские ценности и убеждения. «Церковные историки … соединяют воедино античное прошлое с еще более древним иудейским, вавилонским, библейским прошлым; христианскую и дохристианскую историю; историю священную и профанную, и в конечном итоге приходят к построению единой истории человеческого Спасения» (Ващева, 2016: 28). Например, Евсевий Кесарийский, основатель жанра «церковной истории», уделял большое внимание истории христианской церкви и преследованиям христиан в Римской империи, но при этом не стремился подробно описывать античную историю. Он использовал элементы языческой истории для подтверждения историчности фигуры Христа и событий, связанных с христианством. Евсевий вставлял отрывки из античных источников, цитировал письмена языческих авторов, чтобы показать, что Христос и христианская религия существовали в реальном историческом контексте.
Выбор событий и персоналий для описания, характеристики, увековечения в слове, а также их оценка имели важное значение для восприятия современных событий и трактовки византийской идентичности – самоощущения граждан византийского государства. Византийские историки, включая Евсевия, выбирали определенных персонажей, личность которых выражала контекст античной истории, христианское мировоззрение. Историческая роль этих личностей носила в представлениях византийцев новаторский характер, отражала доктрину пришествия Христа и воцарения христианской монархии. Речь идёт о видных деятелях античности, оставивших свой след в истории: император Август, Юлий Цезарь, Александр Македонский. Так, известно, что Евагрий описывал Юлия Цезаря как предвестника единовластия и авторитета, который стал прообразом грядущего единовластия Христа.
Важный аспект самоидентификации византийского народа и понимания своей исторической роли в мире решался через проблему поиска своего прошлого и формирования общего образа истории. В этом смысле античная история воспринималась как часть собственной, а значит, византийская идентичность отражала эллинское самоощущение.
Православное христианство как фундамент византийской идентичности. Важнейшим аспектом византийской идентичности было прочное чувство принадлежности к православному христианству. Огромное значение для формирования византийской культуры имело принятие императором Константином Великим христианства и его последующее утверждение этой религии как государственной. История его обращения к христианству является сложным и многогранным процессом. Хотя некоторые историки склонны видеть в этом прежде всего геополитические мотивы, связанные с укреплением власти и стабилизацией империи, важно отметить, что личное отношение самого Константина к христианству сыграло ключевую роль в его решении принять эту религию. Император испытал переживания и видения, которые привели его к принятию христианства, и он считал, что после обращения к этой вере божественное провидение помогло ему в победе над врагами.
Становление христианства, как государственной религии византийской империи в IV в., сделало исповедание христианской веры обязательным для всех и играло ключевую роль в формировании византийской идентичности. Византийская империя первой приняла христианство на государственном уровне. Православие стало неотъемлемой частью жизни византийцев, фундаментом византийской цивилизации, проникло во все сферы жизни византийского общества – от политики и культуры до образования и искусства.
Церковь играла особую роль в укреплении власти императоров, оправдывая правление как божественно установленное. Она являлась частью государственного аппарата, где епископы и патриархи имели значительное политическое влияние, их поддержка была важна для легитимации правительства.
Церковь служила не только духовным нуждам, но и оставалась единственным институтом образования, сохраняя и передавая древние знания и культурные ценности, имела важное значение в сохранении культурного единства империи, определяла моральные нормы и ценности общества, влияя на поведение людей, их отношения друг с другом и с миром в целом. Она была хранительницей языка, литературы, искусства и образования. Многие известные писатели, философы и ученые Византии были священниками или монахами.
Неотъемлемой частью византийской идентичности, повседневной жизни византийцев стала и символика православных религиозных обрядов, праздников, обычаев. Примером может служить обряд Коронации императора, подчёркивающий связь между православием и державностью в Византии. Это была церемония, в которой участвовали как светские, так и церковные деятели. Правители считались избранными Богом и имели особый статус в церковной иерархии. Через обряд коронации передавалась «державность», олицетворяющая утверждение важности и величия страны как единой и могущественной державы. Синонимы этого понятия – «величественность», «государственничество», «могущественность» и «царственность» подчеркивают идею силы, власти и высокого статуса государства. Исторически корни слова «держава» в славянском «държа» отражают возвышенные представления о владычестве и могуществе страны. Понятие «державность» охватывает различные аспекты жизни государства, включая его политический, экономический, военный и духовный потенциал, а также его место и роль на международной арене. Но прежде всего «державность» – это важнейший устой российской цивилизационной идентичности, опирающийся на православную духовность как один из значимых, непосредственно заимствованных у Византии символов национальной идентичности.
Выводы . Таким образом, византийская идентичность была тесно связана с эллинизмом, христианством и наследием Римской империи. Эти аспекты определяли особую роль и место Византии в истории, а также формировали ее культуру, ценности и общественный порядок.
Изложенные аспекты византийской идентичности подчеркивают сложность и многослой-ность этой культуры. Византийцы действительно проявили удивительную способность к адаптации и синтезу различных культурных влияний. Римская традиция в области управления и права, греческая философия и наука, а также христианская религия были объединены в их культурной идентичности – Romanitas, Hellenism и Христианство. Этот синтез позволил Византийской империи сохранить свою уникальность и выдержать множество вызовов, с которыми она сталкивалась; воссоздать значимые цивилизационные элементы, имеющие ценность и с точки зрения формирования индивидуальной личности, и для развития общества.
В поисках устойчивой идентичности современного человека изучение идентичности византийской – элементов культуры, религии, политики, искусства и образа жизни – способно усилить основные черты и особенности современной личности, может быть вдохновляющим для современного человека в обретении и принятии им себя. В опосредованном и преобразованном на русской почве виде была воспринята державность как основа российской государственной идентичности.
Россия заимствовала у Византии целый ряд фундаментальных основ цивилизационной идентичности. Непосредственно было принято православие как основа российской духовной идентичности. Таким образом, исторически можно рассматривать российскую социокультурную идентичность как наследницу и преемницу некоторых важнейших черт идентичности византийской, которые были развиты и адаптированы на почве российской истории.
Список литературы Византийская идентичность как фактор формирования русской идентичности
- Бирюков Д.С. Перипетии византизма в русской мысли середины XIX – начала XX вв. Часть 1: А.И. Герцен, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Т.И. Филиппов // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 6, № 1. С. 41–64. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2022-1-41-64.
- Бороздин И.Н. Т.Н. Грановский и вопросы истории Византии // Византийский временник. Т. 11. 1956. С. 271–278.
- Ващева И.Ю. Эллинизм в системе византийской идентичности / И. Ю. Ващева // TractusAevorum: эволюция социокультурных и политических пространств. 2016. Т. 3, № 1. С. 23–50.
- Грановский Т.Н. Латинская империя // Собрание сочинений. М., 1900. C. 377–378.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. М., 2017. 569 с.
- Жаде З.А. Проблема идентичности в современных социальных теориях // Философия и общество. 2007. № 2 (46). С.173–184.
- Лебедева Г.Е. Ф.А. Курганов и И.И. Соколов: учитель и ученик // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2001. № 3. С. 53–71.
- Леонтьев К.Н. Pro et contra: антология: в 2 кн. Кн. 2: Личность и творчество К. Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917 г. СПб., 1995. 699 с.
- Леонтьев К.Н. Кто правее? Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву. О национализме политическом и культурном. М.; Берлин, 2016. 142 с.
- Леонтьев К.Н. О всемирной любви. СПб., 2018. 348 с.
- Леонтьев К.Н. Письмо К.Н. Леонтьева А.А. Александрову, 1887 г. // Леонтьев К.Н. Избранные письма.1854–1891. СПб., 1993. С. 316–323.
- Литаврин Г.Г. Византийцы и славяне – взаимные представления // Литаврин Г.Г. Византия и славяне: сб. статей. СПб., 1999. С. 590–602.
- Скотникова Г.В. Концепт «византизм» в русском культурфилософском самосознании: К.Н. Леонтьев и Ф.И. Успенский // Русско-Византийский вестник. 2022. № 4 (11). С. 110–122. https://doi.org/10.47132/2588-0276_2022_4_110.
- Спасский А.А. Значение Византии в истории западно-европейской цивилизации // Богословский вестник. 1902. Т. 1, № 4. С. 808–836.
- Успенский Ф.И. История Византийской империи: в 5 т. Т. 1: Становление. М., 2011. 607 с.
- Успенский Ф.И. История Византийской империи, VI–IX вв. / cост. Т.В. Мальчикова. М., 1996. 827 с.
- Хомяков А.С. Примечание к статье «Голос грека в защиту Византии» // Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. М., 1900. Т. III. С. 366–368.
- Чаадаев П.А. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М., 1991, Т. 1. 798 с.