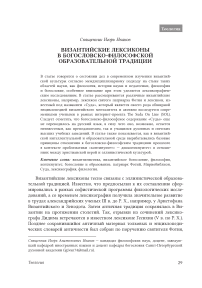Византийские лексиконы в богословско-философской образовательной традиции
Автор: Иванов Игорь Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье говорится о состоянии дел в современном изучении византийской культуры согласно междисциплинарному подходу на стыке таких областей науки, как филология, история науки и педагогики, философия и богословие, особенное внимание при этом уделяется лексикографическим исследованиям. В статье рассматриваются различные византийские лексиконы, например, лексикон святого патриарха Фотия и лексикон, известный под названием «Суда», который является своего рода обширной энциклопедией византийского менталитета и активно исследуется современными учеными в рамках интернет-проекта Te Suda On Line (SOL). Следует отметить, что богословско-философское содержание «Суды» еще не переводилось на русский язык, в силу чего оно, возможно, остается неизвестным, как преподавателям, так и учащимся духовных и светских высших учебных заведений. В статье также показывается, как в византийской интеллектуальной и образовательной среде вырабатывались базовые принципы отношения к богословско-философским традициям прошлого в контексте проблематики «континуитет» - дисконтинуитет» в отношениях между христианской верой и эллинистической культурой.
Византинистика, византийское богословие, философия, континуитет, богословие и образование, патриарх фотий, мириобиблион, суда, лексикография, филология
Короткий адрес: https://sciup.org/140190264
IDR: 140190264
Текст научной статьи Византийские лексиконы в богословско-философской образовательной традиции
патриарха Константинопольского в обширный лексикон, носящий его имя1.
Некоторое время ученые приписывали начало собственно византийской лексикографической традиции перу святителя Кирилла Александрийского, вероятно, в виду его обширной учености и осведомленности во «внешней философии». Как бы то ни было, именно в Александрии в V–VI вв. по Р. Х. появляется первый византийский христианский лексикон, разошедшийся во многих списках по всей империи. Этот лексикон содержал в себе толковые статьи на лексемы, взятые как из классической литературы, так и из библейских текстов. Предназначался он для преподавания риторики.
Здесь можно вспомнить, что аттический высокий стиль на протяжении многих столетий был эталоном речи образованного человека. Сформировавшись в культурных кругах Афин в V-IV вв. до Р. Х. и распространившись в виде «койне» ко II в. по Р. Х. по всем эллинизированным областям Римской империи, он произвел мощный культурный всплеск, породив так называемые: «вторую софистику» языческого мира (II–III в. по Р. Х.) и «третью софистику» (риторику) византийского мира (V–VI в. по Р. Х.).Как отмечают некоторые исследователи, именно в эти периоды и сформировался так называемый «концептуальный класси-цизм»2 Римской (а затем органично и византийской) империи. Как отмечает западный исследователь С. Вальгрен, «величайшим культурным значением было то, что Церковь произвела рецепцию этого аттического наречия» (то есть приняла в свой арсенал весь языковой строй и всю языковую палитру лучших образцов мысли того времени), «что не только позволило на многие века сохранить и передать эти образцы, но и снабдило народ, к которому обращалось просвещенное евангельское слово, внятными и адекватными средствами для оформления своих мыслей в широком спектре литературных жанров»3.
И даже, несмотря на тот факт, что сочинения авторов VII–VIII в. менее соответствуют классическому стилю и изобилуют оборотами из разговорного языка, возвращение к классическим эталонам в риторике таких писателей, как преп. Феодор Студит (759 — 826) и Игнатий Диакон
(770 — 845), свидетельствует о том, что традиция высокого образования сохранялась, хотя уже не была столь массовой, как до этого.
Так же характерно то, что в течение более полутора тысячелетий «Искусство грамматики» александрийского ученого Дионисия Фракийского (170 — 90 до Р. Х.) было базовым учебником по классическому аттическому наречию на протяжении всей византийской истории и сохранило свой авторитет вплоть до эпохи Возрождения, влияя на развитие европейских лингвистических теорий Нового времени. Это же можно сказать и о лексикографической традиции, которая сохранялась преемственно в разных лексиконах, но наибольшее значение имели три обширные компиляции: «Лексикон» патриарха Фотия (IX в.), лексикон «Суда» (X в.) и «Лексикон» Псевдо-Зонары (XIII в.). Последний дошел до нас в более, чем ста списках и был наиболее употребительным толковым словарем на закате византийского мира. Тем не менее, на рубеже XIII-XIV вв. были созданы обновленные компиляции аттических лексиконов трудами Ма-нуила Мосхопула и Фомы Магистра4.
Если обратиться к непосредственным свидетельствам, то можно увидеть, что, например, в своей «Библиотеке» 5 патриарх Фотий упоминает несколько лексиконов, бывших в употреблении в его время. Это лексикон Элладия Александрийского, жившего при императоре Феодосии II (Bibliotheca, cod.145), лексикон Валерия Поллиона (Bibliotheca, cod.149) и лексиконы Диодора, Филострата Тирского и Валерия Диодора, сына Поллиона (Bibliotheca, cod.150). Каждый их них представляет собой собрание лексем и цитат по своей тематике: художественная проза либо поэзия, либо риторика. Кроме того, у Фотия речь идет о лексиконах как пособиях по стилистике:
– классическому или чистому стилю учит “λεξικὸν καθαρᾶς ἰδέας” (Bibliotheca, cod.146-147)
– полемическому или политическому стилю учит “λεξικὸν σεμνῆς ἰδέας” (Bibliotheca, cod.148).
Но для нас замечателен другой факт: в кодексах 151-156 патриарх Фотий описывает целую подборку алфавитных лексиконов, посвященных богословско-философскому тезаурусу платоновского корпуса: 1. небольшой по объему лексикон, посвященный терминологии Платона, составленный неким Тимеем (атрибутируется IV в. по Р. Х.) для некоего Гентиана: (Bibliotheca, cod.151)» 2. Лексиконы платонической терминологии, приписываемые греческому лексикографу Боэцию, хотя в тексте упоминается имя Дорофей (Bibliotheca, cod.154-156)6. В этот же блок толковых словарей входят, согласно описанию Фотия: «Лексикон аттических слов» Элия Дионисия из Галикарнасса (Bibliotheca, cod.151) и «Лексикон» Павсания (Bibliotheca, cod.151).
Как уже отмечалось, и сам патриарх Фотий составил свой «Лексикон» . Впрочем, это была юношеская работа, но именно ее отголоски видны в кодексах его «Библиотеки» . Вот, что пишет по этому поводу Поль Ле-мерль: «Несмотря на все споры, которые имели место и продолжаются по этому вопросу, мне кажется, что первой работой Фотия, дошедшей до нас, является «Лексикон» . Нет достаточных оснований отвергать свидетельство из 21-го вопроса «Амфилохий» : «Можно было бы приняться за большой труд, собрав не все слова с их множеством значений — задача огромная и почти неисполнимая, — но наиболее разговорные и чаще всего употребляемые; это я и сделал, как ты знаешь, на исходе отроческого возраста ». К тому же мы знаем от самого Фотия, что он внимательно просмотрел большое число словарей: в «Библиотеке» он цитирует, по меньшей мере, шестнадцать из них и неоднократно указывает, как полезно было бы сделать из нескольких один».7
По наблюдениям П. Лемерля создается впечатление, что патриарх Фотий постоянно пользовался своими лексикографическими заметками на протяжении всей жизни и в какой-то момент издал их в виде словаря: «Кратко сказать, «Лексикон» носит характер более практический, чем систематический или ученый. По ходу чтения, на протяжении многих лет, Фотий отмечал, придерживаясь алфавитного порядка, κατὰ στοιχεῖον, все слова или выражения, вызывавшие у него интерес или затруднение. Возможно, чтобы их понять, он обращался к тем или иным из специальных словарей, с которыми, как мы знаем, он мог консультироваться; однако при нынешнем состоянии наших знаний не кажется, что он воспроизвел или объединил какие-то из этих словарей как таковые в своем сборнике. Он мог начать эту работу, будучи очень юным, и продолжать ее долгое время более или менее регулярным образом; но мне кажется совершенно ясным, что по своей природе, недостаткам, разрывом между устремлениями и осуществлением проекта, по некоторой наивности, а также по своему совершенно светскому характеру, она носит отпечаток годов обучения. Но Фотий был не таким человеком, который позволит чему-нибудь пропасть: он извлекал выгоду из всего прочитанного им, из всех своих заметок и записей. Итак, однажды он собрал части «Лексикона» и издал их, снабдив их предисловием, которое должно придать вид целостности и общеполезной значимости работе, ими в достаточной степени обделенной».8
Нужно учитывать, что в той или иной мере Фотий, еще будучи профессором университета в Константинополе, мог использовать «Лексикон» для занятий со своими учениками, а также то, что «Лексикон» , как и «Библиотека», предназначался потенциальным ученикам (как бы «в лице младшего брата Тарасия»). В силу чего можно сделать вывод о некоей образовательной концепции Фотия. Конечно, «Лексикон» по своему составу был более светским и нейтральным, в отличие от «Библиотеки» , хотя и «в ней почти равный удельный вес занимали светские и теологические работы, предназначенные для изучения. Конечно, было бы натяжкой говорить в современном ключе о фотиан-ском «богословии образования», но о явной корреляции богословия и образования в Византийской державе в эпоху расцвета научного энциклопедизма вполне можно утверждать как раз на примере состава «Библиотеки» Фотия»9. «Лексикон» Фотия, как и упомянутые им в «Библиотеке» прочие лексиконы служили своего рода филологической пропедевтикой как к философским, так и к богословским штудиям. Можно сказать, что тесная связь филологии, философии и богословия была нормой для византийской образовательной традиции, поскольку ее идеалом была точность богословско-философской мысли, которую и обеспечивало внятное употребление слов и словосочетаний, а также адекватное, чистое построение предложений, основанное на филологической внимательности к смыслу, форме и значениям.
Тем не менее, «Лексикон» Фотия оказался необходимым звеном в византийской лексикографии, он был хорошо известен в филологической и образовательной среде своего времени, а также пользовался широкой популярностью в Х в.,10 в силу чего частично вошел в состав энциклопедии «Суда»11, о которой и пойдет теперь речь.
Говоря о византийском энциклопедизме, который напитал «Суду» различными источниками, нужно вспомнить об «Ономатологосе» — словаре греческих писателей, составленном Исихием Милетским12, историком и чиновником высокого ранга при Юстиниане Великом. Фактически, это был первый византийский биобиблиографический словарь, который пользовался особой популярностью среди интеллектуалов, вплоть до IX в., когда по какой-то причине он был утрачен, сохранившись лишь в сокращенной версии под названием «Эпитома» , которая в конце X в. стала одним из основных источников для энциклопедии «Суда» , получившей широкое распространение и приведшей саму «Эпитому» к забвению и утрате за ненадобностью13. Отметим, что в «Ономатологосе» большое внимание уделяется трудам Аристотеля, его терминологии, а также сочинениям, которые ложно ему приписывались. Характерно и то, что «Эпитома» была дополнена статьями об авторах, которые жили после Исихия, и о христианских авторах. Этот же принцип соблюдался при составлении «Суды» 14 , поэтому именно она может дать нам материал для выяснения полномасштабной картины византийского энциклопедизма Х в. — как в отношении освоенной и усвоенной византийцами светской культуры, так и в отношении выработанной и сохраненной ими церковно-богословской традиции. Как отмечает Б. А. Семеновкер, при составлении «Суды» автор использовал вставки из «Ономатологоса» Исихия Милетского, «Пира мудрецов» Афинея, работ императора-полигистора Константина Багрянородного, а также свои научные материалы15.
Вот, что писал в свое время о специфике этой энциклопедии византийской мысли профессор СПбДА А. И. Иванов: «Коллективное участие византийских ученых X в. в составлении энциклопедических трудов было обычным явлением. Поэтому и Свида, подобно Симеону Метафрасту, издателю сборника «Жития святых», мог возглавить целую группу лиц, трудившихся над созданием Лексикона, оставив за собой руководство и редактирование. При ознакомлении с содержанием Лексикона создается впечатление, что на его стиль и направление оказало влияние одно лицо. По предположению некоторых ученых, это лицо было духовного звания. Автор Лексикона обнаруживает широкое знакомство с церковной историей, перечисляет всех не только известных, но и малоизвестных епископов, церковных писателей и ересиархов. При истолковании библейских слов он пользуется книгами Священного Писания Ветхого и Нового Завета, проявляя большую начитанность в них. По убеждениям — это строгий ортодокс, враждебно настроенный к еретикам, особенно к иконоборцам»16.
В этом плане немаловажно замечание Б. А. Семеновкера: «Кто был составителем «Суды»? Текст словаря не позволяет это установить, интерес автора к военному делу и теологии обычен для византийца. Наиболее вероятно, что он был служителем церкви, посвятившим себя научной деятельности». Слово «Суда» переводится как «деревянная крепость», «ограда», «ров». Это метафорическое название может быть так объяснено «подобно тому, как крепость создается трудом многих солдат, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело, так и автор словаря составил «Суду» , используя материал из многочисленных источников. В конечном счете «Суда» является истинным бастионом науки, на который всегда можно положиться, и который является надежным оплотом в духовных битвах»17.
Следует отметить, что десятки списков разных византийских лексиконов оказались на Западе после падания Византии в 1453 г., они переписывались, потом перепечатывались и были хорошо известны европейским гуманистам18. Сейчас некоторые из них хранятся, например, в Ватиканской библиотеке. Многие из них отсканированы и доступны через перекрестные ссылки на сайте Принстонского университета, посвященном византийским манускриптам19.
С 2000 г. стал активно развиваться онлайн-проект The Suda On Line (SOL)20, где многочисленные энтузиасты переводят « Суду» с греческого языка на английский. Для перевода используется издание, отредактированное датским библиотекарем Адой Адлер (Suidae Lexikon, Leipzig, 1928 — 1938 гг.). Конечно, не стоит забывать, что важным подспорьем в этой работе был, вышедший в 1900 г. в США греческо-английский словарь римско-византийской лексики, составленный Е. А. Софоклом21.
В качестве примера работы ученых над электронным словарем «Суды» можно привести перевод на английский язык словарной статьи из «Суды» , посвященной разбору значений понятия ἕνωσις («единение»)22.
Текст из «Суды»
Ἕνωσις: διεστώτων πραγμάτων κοινωνικὴ συνδρομή. κατὰ δέκα δὲ τρόπους εἴρηται παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ. ἕνωσις δὲ εἴρηται διὰ τὸ εἰς ἓν συνωθεῖσθαι τὰ πράγματα. γίνεται δὲ κατὰ δέκα τρόπους. κατ’ οὐσίαν, ὡς ἐπὶ τῶν ὑποστάσεων, τουτέστι τῶν ἀτόμων. καθ’ ὑπόστασιν, ὡς ἐπὶ ψυχῆς καὶ σώματος. κατὰ σχέσιν, ὡς ἐπὶ τῶν γνωμῶν, ὡς εἰς ἓν θέλημα. κατὰ παράθεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν σανίδων. κατὰ ἁρμονίαν, ὡς ἐπὶ τῶν λίθων. κατὰ κρᾶσιν, ὡς ἐπὶ τῶν ὑγρῶν, οἴνου καὶ ὕδατος. κατὰ φύρσιν, ὡς ἐπὶ τῶν ξηρῶν καὶ ὑγρῶν, ἀλεύρου
Перевод из The Suda On Line [Meaning] a common coming-together of discrete things. In the Divine Scripture [this concept] has been expressed in accordance with ten modes. The word ‘union’ is used because of things being pressed together into a single thing. It occurs in accordance with ten modes.
-
[i] In accordance with substance [ ousia ], as reference to the subsisting items [ hypostases ], that is the atoms [or: indivisible things].
-
[ii] In accordance with subsistence [ hypostasis ], as in reference to soul and body.
|
Текст из «Суды» |
Перевод из The Suda On Line |
|
καὶ ὕδατος. κατὰ σύγχυσιν, ὡς ἐπὶ τῶν τηκτῶν, κηροῦ καὶ πίσσης. κατὰ σωρείαν, ὡς ἐπὶ τῶν ξηρῶν, σίτου καὶ κριθῆς. κατὰ συναλοιφήν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποσπωμένων καὶ αὖθις ἀποκαθισταμένων, οἷον λαμπάδος πυρὸς προερχομένης, καὶ πάλιν ἀποκαθισταμένης. |
|
^Егал;. SlivMTryy
^у-ГрАта^
xoirawzi;
cuu^op.i.
у;' Jt'-ji. j=
t^Stths
eigrjTcq zs^gc ти Эпос Х^ф"' erams ее рут re,
2to
To ei; ее сыи^еТ^ та т5
етг! т
'niz.-ttii,
zilgH xai
Triayvs.
^ ragei'n1!
as
e-rrl
-F/J
^gai1,
dum fynnlocphen : in in iis, qu.r ab aliqua re
Если учесть, что бумажные или отсканированные версии «Суды» не так удобны для научной работы в современном формате, то обращение к проекту The Suda On Line (при необходимой сверке с печатным первоисточником) сможет в разы облегчить исследовательскую деятельность филологам, культурологам, философам и богословам, работающим в этом междисциплинарном формате23. Вполне очевидно, что данный проект может стать колоссальным источником для исследований богословско-философской мысли и соответствующей терминологии времен расцвета византийской культуры и цивилизации. Конечно, было бы отрадным увидеть нечто подобное этому онлайн-проекту в русскоязычном сегменте интернета.
Тем более, что в российской науке есть определенные шаги в этом направлении. Своего рода современной версией византийских толковых богословско-философских лексиконов стал весьма полезный словарь священника Александра Назаренко «Греческо-русский словарь христианской церковной лексики (с толковыми статьями)».
В заключение хочется сказать, что с одной стороны византийские энциклопедические лексиконы, особенно «Суда» , не только предлагают нам бесценные сведения для уяснения всего спектра гуманитарных знаний Византии, но и являют собой стремление сохранить всё разнообразие достойных образцов культуры и цивилизации в изменчивом и неустойчивом социальном мире. С другой стороны, само содержание византийских энциклопедий свидетельствует о гармоничном синтезе «внешней» образованности и христианской веры, которое возможно в целостной личности при аскетическом единстве разума и веры, как бы они ни сочетались: в виде «разумной веры» или «верующего разума», но главное, чтобы они были осененными благодатью Святого Духа.
Наверное, можно надеяться, что в контексте развития церковно-государственных отношений в сфере образования определенные педагогические цели, принципы и методы византийских полигисто-ров до сих пор актуальны в своих базовых установках передачи и формирования целостного и всестороннего гуманитарного знания (согласно которым культура, философия и богословие воспитывают человека в «общем деле» постепенного просвещения светом Христовой Истины) и нуждаются только во внятной и корректной реализации в современных условиях.