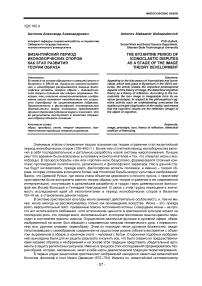Византийский период иконоборческих споров как этап развития теории образа
Автор: Антонов Александр Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе обращения к имевшей место в Византии в VIII-IX вв. дискуссии иконопочитателей и иконоборцев раскрываются важные философские аспекты теории образа - диалектической теории познания как теории отражения. Показано, что, согласно иконопочитателям, изображение иконы является неотделимым от сущности (прообраза) ее существованием (образом). Применительно к философской познавательной деятельности такое понимание преодолевает принцип дуализма (удвоения мира) и означает, что ее результаты выступают в качестве отражения (образа) объекта познания.
Образ, прообраз, икона, теория отражения, диалектическая традиция теоретизирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14936659
IDR: 14936659 | УДК: 165.9
Текст научной статьи Византийский период иконоборческих споров как этап развития теории образа
Значимым этапом становления теории познания как теории отражения стал византийский период иконоборческих споров (726–843 гг.). Более чем столетний период иконоборчества включил в себя последовательную и детальную разработку новой системы миропонимания. Лучшие умы того времени были вовлечены в полемику иконопочитателей и тех, кто отвергал иконы (иконоборцы). В процессе борьбы «за» или «против» икон, безусловно, формировался сложный комплекс противоречий политического, религиозного и философского характера. Нас в данной статье будут интересовать, прежде всего, философские аспекты полемики, а именно – теория образа, которая сложилась в процессе более чем столетней борьбы вокруг культовых изображений. Важно, что Древней Русью, где икона стала объектом церковного и личного культа, с принятием христианства была воспринята именно теория образа (или теория отражения в ее современной интерпретации), получившая в дальнейшем разработку в трудах таких древнерусских философов как Иосиф Волоцкий и Геннадий Новгородский. В связи с этим трудно переоценить значимость исследования идей об иконопочитании в период иконоборческих споров в Византии VIII–IX вв. в становлении данной теории.
В системе христианской культуры икона занимает действительно особое место, и, тем не менее, икона никогда не рассматривалась только как произведение искусства. Икона – это, прежде всего, вероучительный текст, призванный помочь постижению истины. Созерцание иконы – не просто акт эстетического любования, хотя эстетические ценности в христианской культуре играют не последнюю роль; это, прежде всего, молитвенный акт, в котором постижение смысла красоты переходит в постижение красоты смысла. Осуществляя различные функции в духовной сфере, образ, изображенный на иконе, был обращен к сокровенным началам человеческого духа, к первоисточнику или, другими словами, первообразу. Этим он порождал некое духовное блаженство, свидетельствовавшее о своеобразном соединении на сущностном уровне субъекта восприятия с объектом, выраженном в образе, в конечном счете – человека с Богом. Сторонники подобных изображений, вынуждены были для их защиты разыскать и изучить все, что было сказано их предшественниками касаемо образов и изображений и на основе этой традиции представить убедительные аргументы в защиту религиозных рисунков. Именно в процессе этих исследований сформировалась теория образа, которая, несомненно, несет в себе черты диалектической традиции теоретизирования.
В первых рядах защитников христианских изображений находился известный византийский богослов, философ и поэт Иоанн Дамаскин (675–754). Именно он, византийский систематизатор христианской философии, активно применивший аристотелевское наследие к изложению православной веры, написал первую в тот период развернутую работу о религиозных изображениях, которая содержала подробную теорию образа. Особенно активно иконопочитатели, в том числе и И. Дамаскин, опирались на аристотелевское учение об одноименных категориях, обозначенное в первых строках «Категорий». Аристотель пишет: «Одноименными называются те предметы, у которых только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности (logostesoysias) разная, как, например, dzuon означает и человека и изображение» [1, с. 53]. Это высказывание древнегреческого философа свидетельствует о том, что иконопочитатели были убеждены, что икона с изображением Иисуса Христа является иконой Иисуса Христа по сущности, но по совпадению имени, тем самым проводя соответствие между изображением (образом) и оригиналом (первообразом) по единству их имени. В своем «Первом защитительном слове против отвергающих святые иконы» преподобный И. Дамаскин дает следующее диалектическое определение образа: «И так, изображение есть подобие с отличительными свойствами первообраза, вместе с тем имеющее и некоторое в отношение к нему различие. Ибо изображение не во всем бывает подобно первообразу» [2, с. 351]. Такое же определение он дает и в своем третьем Слове: «Итак, образ есть подобие и пример, и изображение чего-либо, показывающее то, что на нем изображено. Не во всем же совершенно подобен образ первообразу, то есть изображенному, но одно есть образ, а другое – изображенное, и различие их совершенно ясно, хотя и то и другое представляют одно и то же» [3]. Другими словами, это можно выразить в следующем – сущностной характеристикой образа является подобие первообразу по основным его критериям при неотъемлемом наличии ряда несовпадений с ним, то есть образ близок к оригиналу, но не является его копией, дубликатом. Так доктор философских наук и известный российский религиозный деятель Вадим Миронович Лурье в своей книге «История византийской философии» пишет о том, что основной тезис иконопочитания VIII в. сводится к следующему: «Иконы (и вообще все церковные символы) почитаются не сами по себе, но постольку, поскольку в них Своими энергиями пребывает Бог. Поэтому им воздается не абсолютное (служебное) поклонение, подобающее исключительно Богу, а поклонение относительное, подобающее тому, в чем присутствует Бог» [4, с. 431]. Другими словами, образ и первообраз могут иметь между собой онтологическую, а не только условную связь. Очевидно и то, что при таком общем определении образа в него попадает и понятие имени (и символа вообще): имя есть некое подобие, показывающее собой именуемое, но при этом не является его точным повторением.
Продолжая свои рассуждения в пользу иконопочитания, И. Дамаскин задается для себя вопросом, для чего нужен образ. Он говорит: «Всякий образ есть откровение и показание скрытого». Другими словами, образ – это неотъемлемое средство познания человеком окружающей действительности, а как нам известно, способности человека к познанию ограничены его материальной природой, он не может обладать ясным знанием ни о чем невидимом, то есть отдаленном от него пространством или временем, и именно поэтому «для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования скрытого и выдуман образ» [5]. Следовательно, по мнению византийского мыслителя, главная функция образа – познавательная, посредством материальных образов человеку открывается возможность познать мир и все те явления, которые в нем происходят. Образ раскрывается как процесс перехода от познания явлений внешнего мира к изучению их сущности; как процесс углубления познания природы сущностии в данном случае образ – существование сущности прообраза.
Рассуждая далее, рождается вопрос о том, каким же образом происходит процесс познания посредством образов, и возможно ли это вообще? По этому поводу активно высказывались иконоборцы, предполагающие исключительно умственное созерцание Бога без каких-либо материальных посредников, другими словами, умозрительное познание. Именно эта форма познания, согласно иконоборцам, является единственно верной и правильной, а чувственное восприятие материальных, художественных образов и поклонение им – это «идолопоклонство». В ответ на это, в «Первом защитительном слове против отвергающих святые иконы» И. Дамаскин отстаивает ценность чувственного познания посредством зрения следующим образом: «И мы чувственно воспринимаемое изображение Его, выставляем повсюду и (через это) освящаем первое чувство, – ибо первое из чувств – зрение; как и словами – слух. Образ же есть напоминание. И что для обученных письменам – книга, то для необразованных – изображение; и что слово для слуха, то образ для зрения: мы мысленно с ним соединяемся» [6]. Здесь следует отметить тот факт, что византийский мыслитель разрабатывает такую систему, в которой имелось бы место и человеческому разуму, то есть «умственному поклонению», и образу, как его неотъемлемой части. И. Дамаскин дает и объяснение «технологии» процесса визуального восприятия изображения с использованием способностей человеческого ума: «Ибо через ощущение создается некоторое впечатление в передней части мозга, которое передается способности суждения и сохраняется в памяти» [7]. Таким образом, путь познания начинается с воспринимающих органов, в данном случае, зрения, потом передается уму со «способностью суждения» и уже далее попадает в память, где и хранится.
Проведя анализ вышеуказанных высказываний византийского мыслителя, мы снова можем проследить обращение к аристотелевскому наследию, в частности, к учению о восприятии. В трактате древнегреческого философа «О памяти и припоминании» говорится о том, что все процессы человеческого мышления требуют образов. Процесс припоминания, согласно Аристотелю, также требует образа, «отпечатка» воспринятого когда-то объекта: «Дело в том, что возникающее движение запечатлевается словно отпечаток ощущаемого предмета, точно так же как запечатлеваются отпечатки перстней» [8, с. 162]. Отсюда следует, что первичное восприятие создает мысленный образ, который хранится в памяти, и более того, как считает Аристотель, образ должен быть подобен воспринятому, но при этом отдельно подчеркивает, что изображения, как и обычные рисунки одновременно «сходны» и «несходны» с так называемым прототипом: «Как нарисованное на картине животное есть одновременно и животное, и изображение, и оба они тождественны и есть нечто одно, хотя бытие у них разное, так что можно рассматривать одно и то же и как животное и как изображение, так же точно и находящееся в нас представление нужно полагать и чем-то самим по себе существующим и относящимся к другому. Взятое само по себе, оно есть предмет созерцания и представление, относящееся к другому, есть как бы образ и воспоминание» [9]. В своей теории Аристотель наделяет образы функцией воспоминания о прошлом, точно так же как и И. Дамаскин, относящий икону к вещам, которые напоминают о прошлом.
Итак, у византийского богослова и мыслителя И. Дамаскина мы находим развернутую теорию образа, которая основывалась на диалектических принципах и включала икону в систему «умственного восприятия». Он создает ее на основе идей Аристотеля, приспосабливая к основному принципу – принципу образа как условия познавательной деятельности к функции иконы напоминания о прошлом.
Внимательный анализ как иконоборческих, так и иконопочитательских текстов показывает, что обвинение иконопочитателей исходит из того, что для иконоборцев икона должна быть тождественна своему первообразу. Действительно, если образ на иконе никак не сопричастен своему архетипу, то «нельзя поклоняться тому, что только называется, но что в действительности не есть Божество», – утверждают иконоборцы [10, с. 128]. Если икона, а точнее изображенный на ней образ, не имеет ничего общего с первообразом, то в поклонении ей выражает явное идолопоклонство. Иконоборческая позиция по этому вопросу опирается на положение о тождестве: в иконе должна присутствовать природа Божества. Если этого нет, то и образа быть не может. То есть иконоборцы предполагали, прежде всего, ясное различие между природой, с одной стороны, и личностью (ипостасью) – с другой. В изображении на иконе им представляются две возможности: или, изображая Христа мы показываем его божественную природу, или, изображая человека, то есть Иисуса, мы подаем его человеческую природу, отдельно от божественной. «И то и другое является ересью. Третьей возможности нет», – упоминает об этом Л.А. Успенский в своей работе «Богословие иконы православной церкви» [11, с. 138]. В это время иконопочитатели, ясно осознавая основное различие между природой и лицом, указывают на эту «третью возможность», которая признает недействительной всю иконоборческую дилемму, строящуюся на принципе удвоения мира, свойственного метафизической традиции теоретизирования. Ничего третьего, что бы могло в себе объединить эти две природы, быть не может. На поставленный иконоборцами вопрос о том, отражена ли природа первообраза в его изображенном образе, византийский богослов и мыслитель Феодор Студит (759–826), у которого мы находим дальнейшее ее истолкование, отвечает так: «Икона изображает не природу, а личность. <…> В иконе не присутствует даже природа изображаемой плоти, а только один наружный вид, и менее всего можно говорить об описуемости Божества…». В то же время «и тот, кто сказал бы, что Божество присутствует в иконе, не погрешил бы против истины. <…> Оно, конечно, присутствует также в изображении креста и в других божественных предметах, но не по единству природы, так как эти предметы не плоть обожествленная, но по относительному их к Нему причастию, так как и они участвуют в благодати и чести» [12]. Дело в том, что иконоборцы, согласно своему учению, смешивали свойства природы и личности. Это результат того, что иконоборческому мышлению было доступно лишь два вида соотношений между предметами и явлениями – их тождество и их различие. В сознании же иконопочитателей кроется возможность определенной связи между предметами и явлениями, определенное соучастие одного в другом, даже в случае, если между ними нет сущностного тождества. Два предмета могут быть одновременно и тождественными, и различными. К тому же, если обратиться к понятию художественный образ, то как в сознании художника, так и в сознании зрителя он отражает не холст и краски, даже не изображение на холсте, а изображаемое, то есть какую-то часть или форму объективной реальности, лежащую вне непосредственного чувственного восприятия и лишь обозначенную физической чувственно воспринимаемой сущностью произведения. Безусловно, что при восприятии произведения искусства человек первоначально воспринимает именно само изображение, его физическую сущность, и в его сознании возникает ее образ этой. Другими словами, наше сознание отражает сущность вещи или явления.
Подведем итог. Как мы выяснили, учение иконопочитателей несет в себе традиции диалектической системы теоретизирования, воспринятой от Аристотеля. Образ становится необходимым условием сущностного исследовательского подхода, но лишь с учетом диалектического принципа всеобщей связи явлений. В свою очередь всеобщая связь явлений выступает как образ действительности, неотделимый от действительности прообраза – первообраза – сущности явлений и вещей, и поэтому образы Бога – иконы – являются тем, в чем есть сущность Его. В связи с этим, согласно учению иконопочитателей, следует почитать иконы, так как они являют сущность Бога, которая заключена в изображении. Сущность, а также то, чьей основой она является, не могут, согласно иконопочитателям, существовать раздельно. Сущность находится в самом предмете, а не вне него и они составляют единое целое.
Ссылки:
-
1. Аристотель. Соч.: в 4 т. / под ред. З.Н. Микеладзе. М., 1987. Т. 2.
-
2. Дамаскин И. Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина / пер. с греч.; Имп. С.-Петербургская Дух. Акад. СПб., 1913. Т. 1.
-
3. Там же. С. 399.
-
4. Лурье В.М. История византийской философии. Формативный период. СПб., 2006.
-
5. Дамаскин И. Указ. соч. С. 400.
-
6. Там же. С. 355.
-
7. Там же. С. 352.
-
8. Аристотель. О памяти и припоминании // Вопросы философии. 2004. № 7. С.161–168.
-
9. Там же. С. 162–163.
-
10. Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском переводе. СПб., 1907. Т. 1.
-
11. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. Переславль, 1997.
-
12. Творения преподобного отца нашего ... С. 128.