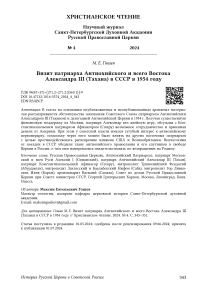Визит патриарха антиохийского и всего Востока Александра III (Тахана) в СССР в 1954 году
Автор: Гошев М.Е.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании опубликованных и неопубликованных архивных материалов рассматриваются обстоятельства посещения Советского Союза патриархом Антиохийским Александром III (Таханом) и делегацией Антиохийской Церкви в 1954 г. Получая существенную финансовую поддержку из Москвы, патриарх Александр вел двойную игру, обсуждая с Константинопольским патриархом Афинагором (Спиру) возможное сотрудничество и принимая деньги от Америки. При этом у советской власти имелся сугубый интерес к антиохийскому первоиерарху, поскольку через него можно было влиять на других восточных патриархов с целью противодействовать расширению влияния США и Великобритании. Впечатления от поездки в СССР убедили главу антиохийского православия и его спутников в свободе Церкви в России, о чем они намеревались свидетельствовать по возвращении на Родину.
Русская православная церковь, антиохийский патриархат, патриарх московский и всея руси алексий i (симанский), патриарх антиохийский александр iii (тахан), патриарх константинопольский афинагор (спиру), митрополит триполийский феодосий (абурджели), митрополит захлесский и баальбекский нифон (саба), митрополит гор ливанских илия (карам), архимандрит василий (самаха), совет по делам русской православной церкви при совете министров ссср, георгий григорьевич карпов, москва, ленинград, киев, одесса
Короткий адрес: https://sciup.org/140308473
IDR: 140308473 | УДК: 94(47+57)+[271.2+271.21(569.1)]-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_343
Текст научной статьи Визит патриарха антиохийского и всего Востока Александра III (Тахана) в СССР в 1954 году
В 2024 г. исполнилось 155 лет со дня рождения выдающегося иерарха Антиохийской Православной Церкви — патр. Александра III (Тахана). Получивший духовное образование в дореволюционной России, этот патриарх был весьма лояльно настроен к Русской Церкви и СССР, что способствовало развитию дружественных взаимоотношений Московского Патриархата с Антиохийским.
Будущий антиохийский первосвятитель родился в мае 1869 г. в Дамаске. Проходил обучение в Патриаршей школе Дамаска, где на талантливого юношу обратил внимание патриарший архидиакон Афанасий и представил его патр. Иерофею I.
-
12 мая 1886 г. принял монашеский постриг от патр. Герасима I. Впоследствии обучался в Халкинской богословской школе, где изучал французский, греческий, турецкий и латинский языки. В 1894 г. в сане диакона вернулся в Сирию, где в течение шести лет преподавал Закон Божий в школах Хомской (Эмесской) митрополии. С сентября 1897 г. по апрель 1900 г. обучался в Киевской духовной академии.
-
20 апреля 1900 г. был рукоположен во иеромонаха патр. Мелетием II и получил назначение на должность настоятеля подворья Антиохийского Патриархата в Москве. Спустя три года был возведен Московским митрополитом сщмч. Владимиром (Богоявленским) в сан архимандрита. Вскоре архим. Александр был вызван в Дамаск, где его избрали митрополитом Тарсским и Аданским. Хиротония была совершена 30 ноября 1903 г. патр. Мелетием.
В 1906 г. принял участие в избрании нового предстоятеля Антиохийской Церкви. В 1913-м сопровождал Антиохийского патриарха Григория (Хаддада) в поездке для участия в праздновании 300-летия дома Романовых. В 1928 г. был избран главой Антиохийского Патриархата. В годы своего патриаршества проявил дружеское расположение к Русской Православной Церкви, осудив раскольническую деятельность обновленцев и живоцерковников (см. подр.: [Нелюбов, 2000, 504–505]).
Как известно, революционные события в России в нач. XX в. негативно сказались на взаимоотношениях Русской Православной Церкви с новой властью. К началу Великой Отечественной войны Русская Церковь уже в течение нескольких лет не занималась внешней деятельностью (см. подр.: [Шкаровский, 2010, 283]). Однако в военные годы ситуация изменилась. И. В. Сталин учел возможности, которыми обладала Церковь в делах внешней политики, и ее объединяющую роль в противостоянии фашистам.
В 1943 г. Русская Православная Церковь избрала своим патриархом митр. Сергия (Страгородского), что получило признание патр. Александра. В том же году Антиохийский патриарх пожертвовал 60 тыс. ливанских фунтов для воинов Советской армии. Данный факт любопытен уже тем, что прежде на протяжении всей истории взаимоотношений двух братских Церквей финансовую поддержку получала только Антиохийская Церковь со стороны Москвы.
В 1945 г. патр. Александр посетил СССР и принял участие в интронизации патр. Алексия I (Симанского). Впоследствии патриарх Антиохийский неоднократно посещал Советский Союз, где получал щедрую финансовую помощь на нужды бедствующей Церкви в Антиохии (см. подр.: [Нелюбов, 2000, 504–505]). Второй, не менее важной причиной его визитов был отдых на юге СССР, о чем он неоднократно просил в письмах Московского патриарха Алексия I (Письма, 2009, 580; Письма, 2010, 193).
Все же, несмотря на существенную финансовую поддержку со стороны Москвы, патр. Александр пытался вести двойную игру, обсуждая возможное сотрудничество с Константинопольским патриархом (Письма, 2009, 591–592). Однако Совет по делам Русской Православной Церкви проявлял особый интерес к главе Антиохийского Патриархата, поскольку он являлся единственным из восточных патриархов, кого можно было привлечь для борьбы с усиливающимся американо-английским влиянием на восточные патриархаты (Письма, 2009, 643–644).
В дополнение к портрету патр. Александра стоит отметить его исключительный вклад в устроение Антиохийского Патриархата. По избрании на патриарший престол он нашел вверенную ему Церковь в состоянии крайнего духовно-религиозного и материального упадка. В его лице Антиохийская Церковь получила любящего пастыря, доступного каждому из пасомых. Патриарх Александр внес большой вклад в обустройство храмов, монастырей и школ. В рамках развития духовного образования он открыл в монастыре Бель-Менд семинарию, которой уделял особое внимание, вкладывая крупные денежные суммы из собственных средств на ее содержание. Особый интерес глава Антиохийской Церкви проявлял к международному движению мира и укреплению единства между Поместными Православными Церквами (ЖМП, 1954д, 57–58).
Со смертью И. В. Сталина в марте 1953 г. борьба за власть внутри партийной верхушки СССР способствовала тому, что международные отношения отошли на второй план. Так, в 1953–1954 гг. внешнеполитическая деятельность Церкви осуществлялась в рамках заранее намеченных для нее государством планов. Наиболее важными, по мнению Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР, оставались контакты с Антиохийской Православной Церковью (см.: [Чумаченко, 2010, 107]).
В продолжение развития братского общения двух Церквей в июле 1954 г. делегация Русской Православной Церкви посетила Антиохийский Патриархат для участия в юбилейных торжествах по случаю 50-летия архиерейского служения патр. Александра III. В ходе визита участники делегации Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым) провели встречи с президентом Сирийской Республики Хашимом аль Атасси и Антиохийским патриархом Александром III (ЖМП, 1954ж, 66–68).
В том же 1954 г. Антиохийский первосвятитель отмечал 23-ю годовщину своего патриаршего служения. По этому случаю патр. Алексий 31 января 1954 г. совершил молебен на подворье Антиохийского патриархата в Москве (ЖМП, 1954е, 6), а также добился через председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова выделения 20 тыс. долларов патр. Александру для воплощения его давних чаяний — завершения строительства здания Патриархии (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 127. Л. 14).
Стоит отметить, что в докладной записке на имя председателя Совета министров СССР Г. М. Маленкова заместитель председателя Совета по делам Русской Православной Церкви С. К. Белышев отметил, что финансовая помощь была оказана Антиохийскому патриарху в 1950, 1951 и 1953 гг. Выделение денежных средств было санкционировано постановлением Совета министров СССР № 432–155-сс от 30 января 1950 г. и распоряжением Совета министров СССР № 2131-рс от 30 января 1953 г. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1114. Л. 56–57).
Выделение советским правительством денежных средств на нужды Антиохийского Патриархата имело решающее значение, поскольку патр. Александр, получая крупные денежные суммы из Америки, мог предпочесть сближение с Константинопольским Патриархатом и Вашингтоном вместо Русской Православной Церкви и Москвы. Так, в 1954 г. на Ближний Восток прибыл американский митрополит Антоний, который имел намерение передать 40 тыс. американских долларов на строительство здания Патриархии. Настоятель подворья Антиохийского Патриархата архим. Василий (Самаха) уговаривал Патриарха отказаться от денег из Америки, но глава Антиохийской Церкви все же принял пожертвование, пообещав при этом, что использует его на другие цели.
-
7 августа 1954 г. архим. Василий (Самаха) в беседе с посланником СССР в Ливане В. А. Беляевым сообщил, что с патр. Александром нужно обращаться построже, чтобы «держать его на правильном пути». Также архим. Василий поделился наблюдением, что глава Антиохийского Патриархата старался не вызывать претензий патр. Алексия своим поведением и что он очень беспокоится, когда патр. Алексий испытывает недовольство по поводу его действий (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1216. Л. 198–199).
Несмотря на хитрую дипломатическую игру патр. Александра, магистральной линией в области межправославных контактов Антиохийской Церкви продолжали оставаться отношения с Русской Православной Церковью. Так, в период с 17 августа по 12 сентября 1954 г. состоялся очередной визит главы антиохийского православия в Советский Союз (ЖМП, 1954а, 10). Получив приглашение от патр. Алексия (ЖМП, 1954и, 3), патр. Александр прибыл в Москву с митрополитами Антиохийской Церкви — Гор Ливанских Илией (Карамом), Захлесским и Баальбекским Нифоном (Саба) и Триполийским Феодосием (Абурджели; будущим патриархом Антиохийским).
По прибытии в столицу СССР делегация Антиохийской Церкви приняла участие в праздничных торжествах, посвященных столетию со дня основания подворья Антиохийского Патриархата. Также была совершена поездка в Троице-Сергиеву лавру (ЖМП, 1954а, 10), деятельность которой была возобновлена в апреле 1946 г. (ЖМП, 2021, 78), в Московскую духовную академию, открытую в том же году постановлением Совета министров СССР от 29 мая 1946 г. (см.: [Сухова, 2017, 179]), и ряд храмов (ЖМП, 1954а, 10).
Поездки патриарха и антиохийских митрополитов были спланированы таким образом, чтобы продемонстрировать свободу религии в СССР высоким гостям, которые по возвращении в Дамаск свидетельствовали бы об изменении политики советской власти по отношению к Церкви и верующим. Так, в июле 1946 г. председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов сообщил в Совет народных комиссаров, что открытие Успенского собора Лавры стало значимым церковным событием и вызвало широкую реакцию за границей. Особый интерес к Троице-Сергиевой лавре проявляли сотрудники иностранных посольств, которые прибывали в Москву из широкого круга стран (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 80. Л. 201). Посетив Лавру и МДА, восточные гости осмотрели основные достопримечательности столицы и совершили путешествие по каналу им. Москвы. Визит в СССР продолжился посещением Ленинграда, Киева и Одессы, где высокие гости побывали в ряде храмов, а также узнали о достижениях советских граждан в культуре и различных отраслях народного хозяйства.
-
12 сентября патр. Александр и сопровождавшие его митрополиты, а также настоятель подворья Антиохийского Патриархата в Москве архим. Василий (Самаха) на самолете добрались из Одессы в Румынию, чтобы оттуда отправиться на Родину.
Перед вылетом антиохийская делегация оставила заявление о своем посещении СССР, его перевод с арабского языка был опубликован в «Журнале Московской Патриархии» № 10 за 1954 год. Из заявления следует, что члены делегации во время пребывания в Советском Союзе посетили множество храмов и монастырей, духовные семинарии и академии, побывали в музеях и познакомились с ключевыми достопримечательностями Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы.
Восточные гости отмечали благочестие советских верующих. Просторные храмы не могли вместить всех желающих присутствовать при совершении молебнов. В храме были женщины, дети и даже мужчины. Скамеек или стульев в церквях не было, и молящиеся стояли на многочасовых богослужениях. Многие верующие посещали храм с тем, чтобы причаститься Христовых Таин. Православные христиане, встречая патр. Александра и восточных архиереев как в храме, так и на улице, с большим желанием брали благословение. После многочисленных встреч с архиереями, священниками и мирянами Русской Православной Церкви антиохийские иерархи отмечали их глубокую веру и любовь к богослужению, строгое следование Священному Писанию и духовным традициям.
Вызывает удивление тезис из заявления антиохийской делегации о том, что Церковь в России имеет полную свободу (ЖМП, 1954а, 10–11). Безусловно, восточные гости видели улучшение положения Церкви в Советском Союзе. Сюда можно смело отнести открытие духовных учебных заведений, возобновление богослужебной жизни в величайшей святыне России — Троице-Сергиевой лавре, открытие ряда храмов, регулярный выход в свет официального издания Русской Православной Церкви — «Журнала Московской Патриархии», уменьшение давления государства, но совершенно очевидно, что всё это было разрешено советской властью не из любви к Русской
Церкви, которая считалась на тот момент идеологическим противником государства, а для использования Церкви в интересах внешней политики. Заявление о полной свободе религии в СССР было не чем иным, как заискиванием перед правительством Советского Союза, которое выделяло деньги для Антиохийского Патриархата.
Не лишним будет привести мнение Ирины Овчинниковой, принцессы Греческой и Датской, о финансировании Восточных патриархатов, которым она делится в письме, адресованном Г. Г. Карпову (см.: [Климова, 2019, 126]). Принцесса Ирина считала, что из всех восточных Православных Церквей следовало финансировать исключительно Антиохийский Патриархат. Однако, по ее мнению, деньги должны были выделяться не на фантазии Антиохийского патриарха, а в соответствии с конкретным планом, который патриарх должен был бы предоставлять чрезвычайному и полномочному посланнику СССР в Сирии и Ливане Д. С. Солоду (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 64. Л. 202).
Помимо заявления антиохийской делегации, информацию о поездке нам дает письмо митрополита Захле и Баальбека Нифона (Саба), которое он 11 сентября 1954 г. составил в Одессе и направил в редакцию «Журнала Московской Патриархии». В письме владыка Нифон сообщает о том, что с ранних лет он имел намерение посетить Русскую Церковь, поскольку много слышал о вере, обрядах древности, благочестии и образованности иерархов Русской Православной Церкви. Также митр. Нифон изучал литературу о православии в России, которая выходила на арабском языке еще до Первой мировой войны. Восточный иерарх упоминает также о том, что западная пропаганда пыталась всячески очернить советское руководство, обращая свой рупор и против Православной Церкви. Так, декларировалось, что правительство СССР преследовало Церковь. Далее митр. Нифон открыто говорит о том, что он столкнулся с дилеммой. С одной стороны, регулярная пропаганда на страницах газет и журналов, с другой — его собственная интуиция, которая подсказывала, что русский народ и правительство не могли принять безбожие в силу следования благочестивым традициям прошлого (ЖМП, 1954а, 11–12).
Безусловно, гонения на Русскую Православную Церковь в Советском Союзе — очевидный факт, но к визиту митр. Нифона в 1954 г. в СССР ситуация видимым образом изменилась. В 1943–1958 гг. гонения на Русскую Церковь со стороны государства были значительно сокращены. Открывались храмы, из мест лишения свободы и армии возвращались священнослужители (см.: [Федотов, 2005, 32]). Относительно традиций и веры русского народа с владыкой Нифоном сложно не согласиться. Ужасные по своей жестокости и масштабам гонения на клириков и мирян не привели к уничтожению веры в душе русского человека.
В СССР владыка Нифон увидел вместительные храмы, которые пленяли своей красотой и многообразием представленных в них произведений живописи и скульптуры, золотого убранства. Более того, храмовые здания были наполнены молящимся народом. На одном из молебнов, упоминает митр. Нифон, было не менее 10 тыс. человек. Тогда архиерея Антиохийской Церкви посетила мысль о том, что такого не может быть и что, всего скорее, это люди, которых заставили прийти в храм, чтобы показать восточным гостям, что Церковь в СССР свободна и храмы полны молящихся. Но эти мысли развеялись, когда все присутствующие запели, показав своим знанием текстов церковных песнопений и умением их исполнять свою подлинную религиозность.
Митр. Нифон отмечает, что он бывал в Европе, странах Южной Америки и Востока, но нигде не видел такой веры и благочестия, как в России. За многочасовым богослужением прихожане молились стоя, помазание елеем длилось часами, было много причастников, сотни христиан крестили своих детей в воскресные и праздничные дни (см. подр.: (ЖМП, 1954а)).
Иерарх Антиохийской Церкви выражал удивление: «Как может русское Правительство преследовать Церковь, когда в самом Правительстве есть министр по вопросам религиозных культов и его заместитель?» (ЖМП, 1954а, 12). Действительно, создание Совета по делам Русской Православной Церкви было позитивным шагом, поскольку через него церковные иерархи получили возможность вести диалог с атеистическим государством. Совет обеспечивал связь между правительством Советского Союза и патриархом, осуществлял контрольно-надзорные функции за деятельностью епархий, доносил до правительства информацию о нуждах Церкви, разрабатывал проекты законодательных актов государства в религиозной сфере (см.: [Федотов, 2005, 32]). Однако Совет по делам Русской Православной Церкви был прежде всего официальным институтом государства, который осуществлял всеобъемлющий контроль за церковной иерархией, рядовыми священнослужителями и мирянами, а также оказывал постоянное давление на Русскую Церковь (см.: [Сосковец, 2008, 167]), что свидетельствует об отсутствии свободы Церкви в Советском Союзе.
Другим аргументом митр. Нифона, свидетельствующим об отсутствии гонений на Церковь в СССР, было то, что сопровождавший антиохийскую делегацию заместитель председателя Совета по делам Русской Православной Церкви жил вместе с восточными иерархами, обедал и общался с ними — и в ходе этого общения гостями был сделан вывод, что его подкованность в церковных вопросах не уступает знаниям выпускников духовных академий (ЖМП, 1954а, 12). Однако вряд ли осведомленность в религиозных вопросах высокопоставленного чиновника, отвечающего за взаимодействие с Церковью, может служить доказательством религиозной свободы в стране. Скорее, это свидетельствует о соответствии заместителя председателя Совета по делам Русской Православной Церкви своей должности.
Большое значение для понимания важности визита антиохийской делегации в Советский Союз имеют слова владыки Нифона о мире, направленные на смягчение противостояния Запада и Советского Союза. Он утверждал, что значительные денежные средства, которые Запад регулярно направлял на подготовку войны с СССР и создание межрелигиозных конфликтов, могли бы быть направлены на отказ от политики насилия и установление мира между религиями.
В письме говорится о том, что прямой долг иерархов Церкви как духовных наставников состоит в том, чтобы способствовать установлению мира между враждующими сторонами, вместо того чтобы, используя пропаганду, достигать собственного величия и корысти (ЖМП, 1954а, 13).
Опубликованное в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» письмо митр. Нифона, в котором особым образом звучали слова о мире, вполне соответствовало общему курсу советской власти в сфере внешней политики. Так, 10 ноября 1954 г. ЦК КПСС было принято постановление, отражающее интересы международной политики Советского Союза. Новое руководство избрало курс снижения напряженности на международной арене (см.: [Чумаченко, 2010, 111]).
В письме восточный митрополит заверяет, что по возвращении в Антиохийскую Церковь он расскажет о том, что заблуждался относительно положения Церкви в России, а также свидетельствует о том, что он говорит подобным образом не потому, что еще не покинул СССР, а по причине собственной убежденности и оказанного антиохийским архиереям гостеприимства.
Тот факт, что митрополит Захлесский и Баальбекский Нифон (Саба) изменил свое мнение после визита в Советский Союз, а также что произошло это вследствие знакомства с духовной и культурной жизнью России того времени и оказанного восточным архиереям гостеприимства, имеет большое значение. Слова митр. Нифона имели вес, поскольку он был одним из самых авторитетных архиереев Антиохийской Церкви и более того, впоследствии считался преемником патр. Александра. Об этом свидетельствует краткая аналитическая справка, составленная вицеконсулом генерального консульства СССР в Дамаске В. Черновым в августе 1958 г. (см.: [Новоторцева, 2020, 34]).
Также патр. Алексий получил письмо от будущего главы Антиохийской Церкви митрополита Триполийского Феодосия (Абурджели), в котором тот выразил благодарность за душевный прием и восхищение увиденными в Советском Союзе культурными и техническими достижениями (ЖМП, 1954г, 5–6).
Несколько позднее, в декабре 1954 г., патр. Алексий получил письмо, наполненное благодарностью за гостеприимство, и от сопровождавшего Антиохийского патриарха Александра митрополита Гор Ливанских Илии (Карама). Митрополит Илия по возвращении на Родину заболел и не смог написать сразу. Восточный иерарх сообщает, что с первого дня по возвращении в Ливан к нему приходили желающие узнать новости о России и услышать его впечатления от визита в СССР (ЖМП, 1954в, 7).
По мнению Совета по делам Русской Православной Церкви, визит антиохийской делегации, возглавляемой патр. Александром (Таханом), способствовал повышению авторитета Московской Патриархии на Ближнем и Среднем Востоке и противодействию распространения ложных представлений о жизни в СССР (Письма, 2010, 72–73).
6 сентября 1954 г. патр. Алексий I сообщил в своем письме Г. Г. Карпову, что во время поездки Антиохийский патриарх проявил большую преданность и симпатию к Русской Православной Церкви, но перед отъездом его смущали корреспонденты, которые говорили ему о гонениях в СССР. Речь шла о статье под заголовком «Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду», которая была опубликована в газете «Правда» от 24 июля 1954 г. Однако патр. Александр сообщил главе Русской Православной Церкви о том, что в ходе визита убедился: дело обстояло иначе, чем его стремились представить враги советского государства, а также что по возвращении на Родину он будет говорить и писать об этом (Письма, 2010, 78–80).
Доказательством слов Антиохийского патриарха служит тот факт, что еще по пути в Дамаск, 19 сентября 1954 г., вместе с сопровождавшими его митрополитами он посетил храм в честь Воскресения Христова в Цюрихе (Швейцария), где беседовал с настоятелем архим. Серафимом и прихожанами о впечатлениях от поездки в Советский Союз и пребывания в гостях у Московского патриарха Алексия (ЖМП, 1954б, 10).
По прибытии в Дамаск глава Антиохийского Патриархата направил патр. Алексию письмо, в котором поблагодарил его за оказанный прием: «Прибыли благополучно. Душой, сердцем всегда с Вами. Бесконечно благодарим за братское гостеприимство и заботу. Хранит Вас Господь. Братски обнимаем, горячо лобызаем» (ЖМП, 1954з, 5).
Проведенный обзор позволяет сделать заключение, что несмотря на попытки Константинопольского патриарха Афинагора (Спиру) развернуть Антиохийскую Церковь лицом к Западу, ее глава Блаженнейший Патриарх Александр III (Тахан) оставался в орбите влияния Московского патриарха Алексия I (Симанского) и советского правительства, сохраняя им верность.
В результате поездки в СССР патр. Александр и сопровождавшие его митрополиты убедились в улучшении религиозной ситуации в СССР, о чем свидетельствовали по возвращении в пределы Антиохийской Церкви. Большое значение имеет тот факт, что в поездке в Советский Союз Антиохийского первоиерарха сопровождал сменивший его в 1958 г. на патриаршем престоле митрополит Триполийский Феодосий (Абурджели), что внесло вклад в развитие будущих отношений между Русской Православной Церковью и Антиохийским Патриархатом.
Список литературы Визит патриарха антиохийского и всего Востока Александра III (Тахана) в СССР в 1954 году
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 64; 80; 1114; 1216; Оп. 2. Д. 127.
- ЖМП (1954а) — Братское посещение // Журнал Московской Патриархии (далее — ЖМП). 1954. № 10. С. 10–13.
- ЖМП (1954б) — Летопись церковной жизни. Высокое посещение // ЖМП. 1954. № 11. С. 10.
- ЖМП (1954в) — Письмо митрополита Ливанского Илии Его Святейшеству, Патриарху Московскому и всея Руси Алексию // ЖМП. 1954. № 12. С. 7.
- ЖМП (1954г) — Письмо митрополита Триполийского Феодосия Его Святейшеству, Святейшему Алексию, Патриарху Московскому и всея Руси // ЖМП. 1954. № 11. С. 5–6.
- ЖМП (1954д) — Светильник Церкви. (К 50‑летию епископского служения Патриарха Великой Антиохии и всего Востока) // ЖМП. 1954. № 6. С. 57–58.
- ЖМП (1954е) — Служения Святейшего Патриарха Алексия (октябрь-декабрь 1953 г. и январь-март 1954 г.) // ЖМП. 1954. № 5. С. 5–7.
- ЖМП (1954ж) — Талызин В. И. На юбилейных торжествах // ЖМП. 1954. № 9. С. 66–69.
- ЖМП (1954з) — Телеграмма из Дамаска Святейшему Патриарху Алексию // ЖМП. 1954. № 11. С. 5.
- ЖМП (1954и) — Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия Блаженнейшему Патриарху Антиохии и всего Востока Александру III // ЖМП. 1954. № 5. С. 3.
- ЖМП (2021) — Пафнутий (Фокин), иером. Первая Пасха после четвертьвекового забвения // ЖМП. 2021. № 4. С. 78–82.
- Климова (2019) — Климова А. А. Восстановление взаимоотношений Московской Патриархии с Иерусалимским и Антиохийским патриархатами в 1946–1948 годах (к вопросу о назначении представителей) // Исторический журнал: научные исследования 2019. № 5. С. 124–134.
- Нелюбов (2000) — Нелюбов Б. А. Александр III // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 504–505.
- Новоторцева (2020) — Новоторцева А. М. Советская и церковная дипломатия в период избрания нового патриарха Антиохийской православной церкви в 1958 году // Христианство на Ближнем Востоке. 2020. № 3. С. 33–45.
- Письма (2009) — Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945–1953 гг.: в 2 т. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. Т. 1.
- Письма (2010) — Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1953–1970 гг.: в 2 т. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. Т. 2.
- Сосковец (2008) — Сосковец Л. И. Советы по делам религий как проводники государственной политики в отношении Церкви // Известия ТПУ. 2008. № 6. С. 162–167.
- Сухова (2017) — Сухова Н. Ю. Московская духовная академия // Православная энциклопедия. М., 2017. Т. 47. С. 153–187.
- Федотов (2005) — Федотов А., свящ. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2005.
- Чумаченко (2010) — Чумаченко Т. А. Совет по делам РПЦ и Московская Патриархия в решении внутриполитических задач хрущевского руководства: 1953–1958 гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2010. № 4. С. 107–123.
- Шкаровский (2010) — Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, Лепта, 2010.