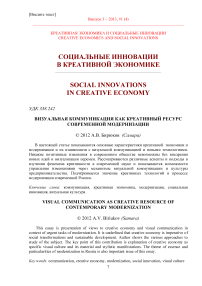Визуальная коммуникация как креативный ресурс современной модернизации
Автор: Бирюков Андрей Владимирович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социальные инновации в креативной экономике
Статья в выпуске: 1 (4), 2013 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье показываются основные характеристики креативной экономики и модернизации и их взаимосвязи с визуальной коммуникацией и новыми технологиями. Никакие позитивные изменения в современном обществе невозможны без внедрения новых идей и визуализации перемен. Рассматриваются различные аспекты и подходы в изучении феномена креативности в современной науке и показываются возможности управления изменениями через механизмы визуальной коммуникации и культуры предпринимательства. Подчёркивается значение креативных технологий в процессе модернизации современной России.
Коммуникация, креативная экономика, модернизация, социальная инновация, визуальная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14238949
IDR: 14238949 | УДК: 338.242
Текст научной статьи Визуальная коммуникация как креативный ресурс современной модернизации
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Креативность и визуализация как императивы современности
Креативность – это, прежде всего, генерация новых идей и способность их перевода в плоскость актуальной социальной практики в нужное время и в нужном месте. Инновационная идея должна быть ясно сформулирована и закреплена в образе, который обретает качество модели посредством визуализации и коммуникации. По существу, креативная экономика есть сцепление различных механизмов коммуникации, и только их сбалансированное взаимодействие позволяет эффективно управлять инновациями и осуществлять модернизацию.
В быстро меняющемся мире креативность становится не только актуальной возможностью социальных и экономических преобразований, но и насущной необходимостью поступательного развития техногенной цивилизации. Причём, как на глобальном, так и на локальном уровнях управления изменениями. Креативная экономика выражает себя не только новыми формами коммуникации, но и инновационным конструированием среды мультикультурного развития. Эта среда выстраивается с помощью разнообразных предметных артикуляций, что делает её информационно насыщенной и визуально репрезентативной.
Считается, что первым ввел в оборот понятие креативная экономика журнал Business Week в августе 2000 года [5, с.60-61]. Затем Д. Хокинс в своей книге с красноречивым названием "Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги" попытался проследить роль и определить место креативной индустрии в мировом масштабе [6,7]. Британский учёный выделяет в креативной экономике различные отрасли (всего 15), в том числе, программирование, исследовательские практики и конструкторские разработки, а также индустрии креативного содержания, такие как кино и музыка. Эти индустрии производят интеллектуальную собственность в виде патентов, авторских прав, торговых марок и оригинальных разработок [5, с.60-61].
В работах американского исследователя экономических инноваций Р. Флориды креативная деятельность рассматривается как способ актуализации амбиций и возможностей нового класса предпринимателей. Экономическая потребность в креативности отражается в формировании нового класса, который Р. Флорида именует "креативным классом". По его данным, сегодня
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS около 38 миллионов человек, 30% всех работающих американцев, принадлежит к этому классу [5, с. 23-24]. «Ядро креативного класса, – пишет Р. Флорида, - составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключается в создании новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. Помимо ядра, креативный класс включает также обширную группу креативных специалистов, работающих в бизнесе и финансах, праве, здравоохранении и смежных областях деятельности. Эти люди занимаются решением сложных задач, для чего требуется значительная независимость мышления и высокий уровень образования и человеческого капитала. Далее, все представители творческого класса — будь то художники или инженеры, музыканты или специалисты по вычислительной технике, писатели или предприниматели — разделяют общий творческий этос, для которого важны креативность, индивидуальные особенности и личные заслуги. Для тех, кто входит в креативный класс, все аспекты и все проявления креативности — технологические, культурные и экономические — взаимосвязаны и нераздельны» [5, с. 23-24, с. 90-91].
Креативный класс имеет не только свои атрибутивные особенности, но и свой стиль профессиональной деятельности или культуру предпринимательства. Ему присущи такие качества как приверженность новациям, амбициозность, мобильность, индивидуальная свобода, либеральные ценности, прагматизм, мультикультурность, коммуникабельность, космополитизм, умение быстро принимать решения и адекватно отвечать на вызовы времени. Это ярко проявляется в вещественных презентациях – демократичной одежде, транспортабельных артефактах (т.е. в вещах, которые движутся), мобильных средствах связи, свободном интерьере, полистилистике форм и художественных артикуляций.
Но главное отличие между креативным и другими классами, как подчёркивает Р. Флорида «заключается в том, за что они получают свои деньги. Представителям рабочего и обслуживающего класса платят, главным образом, за выполнение работы согласно плану, тогда как креативный класс зарабатывает деньги, проектируя и создавая что-то новое, и делает это с большей степенью автономии и гибкости, чем два другие класса. В течение XX века креативный класс вырос в десять с лишним раз, с трех миллионов человек до сегодняшнего уровня; только с 1980 года его численность более чем удвоилась. Приблизительно 15 миллионов специалистов, более 12% рабочей силы США, принадлежит к его суперкреативному ядру» [5, с.90-91].
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Для креативной экономики важна визуальная составляющая, которая обеспечивает самоидентификацию субъектов и объектов коммуникации, их свободное распознавание, демонстрационное взаимодействие и эффективный обмен образов и сюжетов, необходимые для открытой рыночной экономики и инновационного проектирования. Не случайно дискуссии о креативной экономике сопровождаются ростом интереса к визуальным средствам передачи информации.
Визуальная коммуникация как ресурс креативной экономики
Современная техническая цивилизация есть система разнообразных методов управления вниманием и чувствами человека, равно как и их предметными артикуляциями, становящимися все более значимыми элементами трансэкономической коммуникации.
Исследователи выделяют в современном обществе «аудиовизуальные, экранные технологии, которые, одновременно апеллируя к двум важнейшим органам чувств, позволяют создать управляемый механизм комплексного воздействия на чувственный мир человека в его повседневных действиях» [4].
Подробный анализ семантических характеристик визуальной коммуникации представлен в работе А.В. Колосова [4], где на примере современных социально-политических процессов раскрывается смысл и назначение предметных артикуляций в системе управления и организационно-властных отношений. Исследователь приходит к выводу, что, «властная экспансия экранной культуры распространяется не только на приватную сферу домашнего окружения (телевизор, компьютер, плакат, иллюстрированный журнал), но и активно вторгается в публичные пространства городских агломераций в виде рекламных щитов и цифровых мониторов на улицах, в супермаркетах, на транспорте, а также в общественных точках одновременного пользования экраном (кинозал) или экранами (интернет-кафе)» [4].
Современное информационное пространство как семантически насыщенная среда визуальных образов и сюжетов не только формирует условия для внедрения новых технологий, но и меняет саму структуру коммуникативного действия. По мнению А.В. Колосова, «перенасыщенность графикой современных медиа требует от пользователей 10
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS минимальных навыков дешифровки визуальных кодов в отличие, например, от кодов языковых. Навигация в визуально дифференцированном и структурированном информационном потоке осуществляется легче. Особого рассмотрения заслуживает пиктографический язык визуальных сообщений. В компьютерной и Интернет-сетевой субкультурах как нигде царствует пиктограмма – опознавательный знак функции, кнопки, за которой скрывается то или иное решение или событие» [4]. Следует согласиться с тезисом о том, что в современном мире люди в своих экономических устремлениях и культурном поведении «ориентируются не столько на вещи, сколько на образы вещей, людей, событий» [4]. Тем самым, визуальность становится способом предметно-знаковой организации и коммуникации в пространстве креативной деятельности, сцепляющим многоканальные потоки информации в комплекс видимых и различаемых артефактов.
Визуальная коммуникация — это не только возможность через различные символы и знаки сообщить некую информацию, но и способ фиксирования и поддержания устойчивого интереса к взаимодействию, которые в свою очередь обуславливают коммуникативную вовлечённость человека/группы в предметную среду меняющегося социума. В условиях быстро трансформирующихся социокультурных ландшафтов и экономических императивов именно «видимость все чаще получает приоритет вместо контента: не кто и что говорит или пишет, а как при этом выглядит (идентификация сходства с модельными на данный момент медиаобразами), сохраняет ли «лицо» – достойную поведенческую рамку в сложных обстоятельствах и способен ли пробудить чувство эмпатического сопереживании – вот факторы, все чаще становящиеся основным фильтром навигации в визуальном потоке» [4]. Визуализации креативного процесса оформляет и доопределяет цели, задачи и результаты предпринимательской деятельности и обеспечивает, в конечном счете, её эффективность.
Важно обратить внимание и на возможности институциональных форм визуальной репрезентации в креативной экономике, и в частности, в сетевой интернет-коммуникации. Как отмечает А.В. Колосов: «Визуальная доминанта современных электронных глобальных медиа является производной не столько самих средств вещания, сколько определенного социального порядка (или беспорядка), подконтрольного, прежде всего глобальным бизнес-элитам. При этом следует рассматривать отношение между интенцией и воздействием, особенно архитектуру медиа как социального института, его планирование, а также основы других типов
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS технократических институциональных форм» [4]. Об этом же пишет Р. Уилльмс [8]. Следовательно, визуализация как один из способов организации креативной деятельности обладает комплексом психологических, эмоциональных, эстетических и социально-регламентирующих установок, воздействующих на сознание и культурное поведения человека/группы и, тем самым, влияющих на систему принятия решений в обществе.
Всё это применимо к сфере экономического развития. При изучении визуального в глобальных системах коммуникаций, как пишет А.В.Колосов, «переменными будут выступать наряду с визуальными знаками и образами также социальные представления людей, коррелирующие в сознании с этими визуальными образами, коммуникативные намерения и притязания производителей визуальных образов, трансформации режимов видения» [4].
Визуальная коммуникация может быть эффективным способом обнаружения, фиксации, регуляции и распространения социальных представлений людей о мире, и тем самым, может выступать в качестве мощного инструмента инновационного проектирования как в системе общественно-экономических отношений, так и в практике реализации социально-политических задач и намерений. Это обстоятельство ещё сильнее актуализируется в условиях усиления глобальных трансформаций и экономических рисков [1-3]. Кризисные ситуации размывают институционально-структурное поле экономики и побуждают людей к новому конструированию, движущими силами которого выступают креативная деятельность и визуализация изменений к лучшему.
Креативная экономика как управление изменениями
Р. Флорида в своей книге «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» говорит о появлении нового общественного страта, нацеленного на социальные инновации и экономические преобразования. Причём к данному классу могут принадлежать представители различных профессиональных групп, но сориентированные и нацеленные на социальные инновации. «Если вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант; если креативная деятельность является решающим фактором вашей работы — будь то в сфере бизнеса, образования, здравоохранения, права или в какой-либо другой — вы также принадлежите к этому классу» – указывает Р. Флорида [5, с.12]. Американский социолог считает, что появление креативного класса повлекло за собой «глубокие и значительные
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS перемены в наших привычках и методах работы, ценностях и стремлениях, а также в самой структуре нашей повседневной жизни. Поскольку креативность — это движущая сила экономического развития, креативный класс к настоящему времени занял в обществе доминирующее положение. Только уяснив себе феномен роста этого нового класса и его характерные ценности, мы будем в состоянии понять природу масштабных и на вид изолированных изменений в нашем обществе и более радикально планировать будущее» [5, с.12].
Систематическое инвестирование в креативность в форме затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу начиная с 1950-х последовательно увеличивалось. По сведениям, Р. Флориды инвестиции на научную и изобретательскую деятельность во второй половине XX века выросли в США с 5 млрд. долларов (1950) до 250 млрд. и выше в 2000 году.
Очевидно, что эта тенденция ещё более радикально проявляется и в наши дни, когда информационно-компьютерные технологии нескончаемо усиливают инновационную экспансию креативной деятельности во всех сферах наукоёмких и перспективных отраслей экономики. Как свидетельствуют статистические данные, практическая отдача от исследований в течение последнего столетия стабильно росла и значительно ускорилась во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Так, по информации Р. Флориды количество патентов, ежегодно выдаваемых в США, за период с 1900 по 1950 годы почти удвоилось, с 25 000 достигнув 43 000. После 1950-х гг. эти показатели утроились, составив 150000 в 1999 году. Рост креативной рабочей силы становится еще более очевидным на фоне общей статистики. В 1900 году на каждые 100 000 человек в США приходилось всего 55 ученых и инженеров. Эта цифра увеличилась до 400 к 1950 году и до тысячи с лишним в 1980 году. К 1999 году на 100 000 человек приходилось более 1800 ученых и инженеров [5, с.60-61].
При этом отмечается выраженная тенденция усиления экономизации культуры и культурализации экономики . Р. Флорида приводит данные о том, что число людей, работающих в области культуры и художественного творчества, резко увеличилось за последние сто лет. В 1900 году профессиональных художников, писателей и актеров — так называемой "богемы" — было примерно 200 000 человек, в 1950 году — уже 525 000, а в
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
1999 году — 2,5 млн., т. е. после 1950 года их рост составил более 375%. В 1900 году на каждые 100 000 американцев приходилось 250 представителей богемы, в 1950 году — около 350, в 1980 году – более 500 и в 1999 году – 900 [5, с.60-61]. Очевидно, что креативная деятельность смыкает экономический процесс с художественным творчеством, изобретательством и рационализацией. По существу, нет креативной экономики без художественного обрамления. Эстетические образы и сюжеты делают продукты экономической деятельности (товары и услуги) не только привлекательными, но и катализаторами новых идей и культуротворчества.
Все обозначенные тенденции развития и взаимодействия креативной деятельности и визуальной коммуникации проливают свет и на перспективы развития креативной экономики в современной России. Модернизация экономики в переходном обществе в сильной мере зависит не только от эффективного использования новых технологий, но и от участия в ней креативного сообщества.
Модернизация как сфера креативной деятельности
Модернизация не только раскрывает наиболее полно ресурсы визуальной коммуникации, и креативной экономики, но и выводит их на первый план в решении неотложных задач социально-экономических преобразований. Применительно к современным процессам в России, обуславливающих необходимость перехода к модернизации, можно выделить несколько императивов инновационного проектирования.
-
1) Экономические реформы и обновление промышленного потенциала не могут в эпоху глобализации осуществляться без обращения к технологиям социокультурного проектирования, включая модели социального поведения и механизмы визуальной коммуникации, т.е. модернизация есть всегда культурная деятельность.
-
2) Модернизация не может быть в своём позитивном воплощении ничем иным, как креативным процессом.
-
3) Результативность модернизации определяется сбалансированным взаимоотношением глобальных и национальных интересов, универсальных и локальных технологий, традиций и инноваций.
-
4) Модернизация не может быть эффективной без создания функциональной инфраструктуры, обеспечивающей перевод экономических задач в плоскость их институционального решения.
-
5) Цели модернизации могут быть достигнуты лишь при условии организационально-упорядоченных отношений и связей как внутри 14
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS меняющейся системы, так и её коммуникативной включённости в глобальный контекст интеграции.
Не надо забывать, что не бывает модернизации от «хорошей жизни». Модернизация всегда ответ на вызов, рисковое испытание, императив жизнеобеспечения. По В.Л. Иноземцеву, модернизация – «это процесс приспособления экономики и общества к условиям, в которых нынешняя социально-экономическая система чувствует себя некомфортно, проигрывая конкурентам или ощущая неизбежность отставания» [3]. При этом, как показывает В.Л. Иноземцев, «модернизация выступает жизненно необходимой, а не просто желательной мерой. Модернизация для России, как и для других модернизировавшихся стран, – мера вынужденная. Модернизация должна вывести общество на путь, который позволит затем отказаться от модернизаций и перейти к нормальному поступательному развитию. Средствами модернизации являются четкий план, основанный на учете исторического опыта, и его упорядоченная реализация, а её результатами станут и демократия, и рост благосостояния, и развитие высоких технологий, и прочие блага подобного рода» [3]. Отмечается также, что «модернизация – это встраивание в мир, а не подстраивание мира под себя. Мы находимся в ситуации, в которой за последние 60 лет побывали многие другие страны: Германия и Япония после Второй мировой войны; Южная Корея и Тайвань в 1960-е годы; Бразилия на рубеже 1970-1980-х годов; Китай, начиная со второй половины 1980-х» [3].
Известный исследователь глобальных экономических трансформаций полагает, что императивами российской модернизации являются насущные задачи догоняющего развития, а не "социального проектирования". Однако с этим тезисом трудно согласится, поскольку «догоняющее развитие» по определению нельзя осуществлять без «социального проектирования», которое только и может создавать условия для генерации новых идей и запуска новых технологий.
Модернизация есть всегда мобилизация ресурсов. Это достаточно дорогой процесс и для достижения его целей требуется наличие необходимого потенциала, способного модернизацию осуществить. «История не знает модернизаций, которые не были бы индустриальными – пишет В.Л. Иноземцев. Каждая модернизировавшаяся страна ставила задачей самообеспечение качественными промышленными товарами и вывод своей продукции на мировой рынок». Показательным примером является Япония, которая «с 1960 по 1989 г. увеличила выпуск автомобилей в 19 раз,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS мотоциклов – в 26, телевизоров - в 38, а магнитофонов и аудиосистем – более чем в 45 раз» [3].
Модернизацию с культурологических позиций интерпретирует С.Н. Гавров. В своей недавней книге «Модернизация России: постимперский транзит» (2009) он отмечает, что модернизация есть макропроцесс перехода от традиционного к современному обществу и от него к обществу модерности. По мнению российского культуролога, в постиндустриальном мире наблюдается переход от институциализированных, вертикально интегрированных моделей социальной солидарности к сетевым формам. «Человек эпохи поздней модерности, пишет С.Н. Гавров, может отождествлять себя с транснациональными движениями, в том числе антиглобалистов, экологистов, сексуальных меньшинств, молодежных движений нонконформистского типа, с владельцами автомобилей, стиральных машин, шампуня, с потребителями определенных референтных марок товаров и услуг. Человек может выступать как владелец дома, построенного по определенному проекту, автомобиля определенной модели, делать выбор между огромными потребительскими общностями любителей пепси или кока-колы, болеть за футбольную команду, часто не представляющую национальное государство, гражданином которого он является, солидаризируясь с болельщиками данного клуба и т.п.» [2]. Человек современной эпохи все сильнее погружается в виртуальное пространство сетевой культуры. Понятие сетевое общество было введено известным социологом М. Кастельсом, согласно которому информационная эпоха порождает общество, которое, является не только глобальным, но еще и коммуникативным или сетевым (network society) – оно развивается спонтанно, в результате взаимодействия многих социальных групп и отдельных людей.
Таким образом, проблема модернизации может рассматриваться как процесс самоидентификации культуры и как способ конструирования институциональной и предметной коммуникации или функциональной упорядоченности социума. Экономические императивы в условиях модернизации всё сильнее сближаются с культурными мотивациями, образую, в конечном счёте, коммуникативную взаимозависимость друг от друга.
Модернизация подобна открытой стройплощадке культуры, на которой не только возводится новое здание, но и экранизируются новые сюжеты, со своими событиями, героями и вещественными атрибутами. «Более того, новые формы самоидентификации и солидарности представляют собой отождествление с культурными продуктами, продуцируемыми средствами 16
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS массовой информации в глобальном масштабе» [2]. Следует признать, что интернационализация экономики и универсализация культуры будут и в дальнейшем определять смыслы и тенденции развёртывания коммуникативного процесса в мировом сообществе, вообще, и в России, в частности. Очевидно, что в ситуации неослабевающей социальной турбулентности именно креативные ресурсы культуры могут стать решающим фактором экономического роста и необходимой предпосылкой общечеловеческой интеграции.
Список литературы Визуальная коммуникация как креативный ресурс современной модернизации
- Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. -М., 2000.
- Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит. -University of Nebraska -Lincoln, 2009 (э-книга)/http://bibliotekar.ru/gavrov-3/2.htm
- Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора культурологии/Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Самара, 2011
- Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный процесс: модели трансформации//Креативная экономика и социальные инновации, 2011. № 1. С.46-49
- Иноземцев В. Призыв к порядку. О модернизации России и возможном экономическом прорыве//"Российская газета" -Федеральный выпуск № 4762, 01.10.2008
- Колосов А.В. Визуальные коммуникации в социально-политических процессах//Вестн. Рос. ун-та дружбы народов, Сер. Политология. -2006. -№ 1 (6). -С. 81-87
- Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. -М.: «Классика -XXI», 2007.
- Хокинс Д. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. -М.: «Классика -XXI», 2011.
- Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. -London: Allen Lane, 2001.
- Williams R. Television. -Hannover, London, 1992.