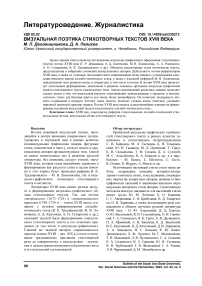Визуальная поэтика стихотворных текстов XVIII века
Автор: Двойнишникова Мария Павловна, Пелихов Денис Александрович
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 2 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является исследование визуально-графического оформления стихотворных текстов поэтов XVIII века (Г. Р. Державина, А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, А. А. Ржевского, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского и др.). Объектом рассмотрения стали поэтические тексты, представленные в собраниях сочинений вышеуказанных авторов. Деятельность поэтов-реформаторов XVIII века, а также их учеников, последователей и современников тесно связана с установлением классицистического канона силлабо-тонического стиха, а также с языковой реформой М. В. Ломоносова, определившей пути развития языка и литературы, в том числе и поэзии. В поэзии XVIII века происходит постепенное формирование, накопление и развитие основных признаков визуально-графической модели стихотворного текста классического типа. Анализ произведений различных жанров позволяет сделать вывод о том, что визуальный рисунок стихотворений, принадлежащих к среднему и низкому «штилю», таких как бытовая притча или песня, более разнообразен. Он позволяет подчеркнуть лёгкость содержания и игровую эстетику таких текстов, помогает уловить смену тематики, усиливает народный песенный характер лирики. Поэзия XVIII века оказала существеннейшее влияние на формирование и развитие визуальной модели классического силлабо-тонического стиха.
Xviii век, классицизм, реформа стихосложения, силлабо-тонический стих, визуальная поэзия, визуальный облик стихотворного текста
Короткий адрес: https://sciup.org/147240382
IDR: 147240382 | УДК: 82.02 | DOI: 10.14529/ssh230212
Текст научной статьи Визуальная поэтика стихотворных текстов XVIII века
Истоки новейшей визуальной поэзии, находящейся в центре внимания современных литературоведов и изучаемой ими в разных аспектах (индивидуальная графическая манера, фигурные стихи, видеопоэзия и проч.), следует искать в произведениях авторов предшествующих эпох. Одной из самых значительных вех в развитии русской литературы, без сомнения, следует считать эпоху XVIII века, которая стала важнейшим периодом в формировании как русского стиха в целом (именно в этот период будет проведена реформа В. К. Тредиаковского – М. В. Ломоносова), так и визуально-графического потенциала стихотворного текста в частности.
Литераторы XVIII века имеют разные заслуги в формировании визуально-графического облика стихотворных текстов. Так, для поэтов «петровского» (1672–1725) и «ломоносовского» периодов (1740–1750 гг. – конец XVIII века), стоявших у истоков реформирования силлабо-тонического стиха (В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемир, А. П. Сумароков и др.), основной задачей было формирование классического стихотворного текста и его основных признаков (в том числе и визуально-графических). Главной же задачей авторов «карамзинского» периода (конец XVIII – нач. XIX в.) стало оттачивание традиционных признаков стихотворной речи до совершенства, а впоследствии – осознание и демонстрация возможностей развития стиха и его визуальной составляющей.
Обзор литературы
Проблемой визуально-графических особенностей стихотворного текста в разных аспектах занимались в отечественном литературоведении С. И. Бирюков, М. Л. Гаспаров, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Ю. Б. Орлицкий, Т. Грауз, Е. В. Сальникова, Т. Ф. Семьян, Д. А. Суховей, М. С. Алысбекова, П. А. Ковалев и др., а в зарубежном – M. Danesi, L. Ellestrom, C. Greve, R. Grimm, D. Higgins, A. Marcus и др.
Источниками настоящей статьи стали также работы, содержащие описание историко-литературного контекста эпохи, и исследования, посвященные творчеству конкретных авторов, начиная от биографических сведений и заканчивая анализом индивидуально-авторского стиля авторов. Существенную методологическую значимость для настоящей статьи имеют труды Ю. М. Лотмана, Б. О. Кормана, С. С. Аверинцева, С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарчен-ко, О. В. Зырянова, а также исследования ряда специалистов в области изучения русской литературы XVIII века – Н. Ю. Алексеевой, Д. Д. Благого, О. Ю. Васильевой, Я. И. Гудошникова, О. Н. Горячевой, Г. А. Гуковского, Я. К. Грота, А. В. Десницкого, П. А. Ефимовой, А. В. Западова, К. Д. Зацепиной, В. Е. Калгановой, Н. Д. Кочетковой, Д. В. Ларковича, А. А. Левицкого, И. С. Леонова; К. Ю. Лаппо-Данилевского, Л. Ф. Луцевич, М. Г. Магоконенко, Т. В. Мальцевой, Л. В. Пумпянского, С. А. Саловой, Б. А. Садовского И. З. Сермана, Ю. В. Стенника, В. В. Трубицыной Т. В. Федосеевой, Г. А. Химич, Л. В. Чернышевой, Б. М. Эйхенбаума и др.
Несмотря на значительную степень изученности в современном литературоведении творчества поэтов XVIII века, по-прежнему остаются аспекты, требующие доработки и переоценки как с позиции прошедших веков, так и с учетом новых методик и современных технологий анализа текста. О необходимости подобного переосмысления художественного творчества поэтов прошедших эпох говорится, например, в статьях Е. П. Левановой, Л. В. Поляковой и др. Таким образом, исследование поэзии XVIII века с точки зрения ее визуальной составляющей является актуальным, прежде всего ввиду того, что классицистическая поэзия этого периода – это важный и закономерный этап формирования и развития русской поэзии, в том числе и в визуально-графическом плане.
Методы исследования
В статье используются сравнительноисторический, историко-культурный, историколитературный, сравнительно-типологический, структурно-семантический и биографический методы исследования.
Результаты и дискуссия
Деятельность поэтов-реформаторов XVIII века, а также их учеников, последователей и современников тесно связана с установлением классицистического канона силлабо-тонического стиха. Вопрос о силлабических стихах данных авторов (если они имеют место в поэтическом наследии) в данной статье не рассматривается. Поэтому, говоря о визуальном облике классического поэтического текста, мы в качестве материала исследования в первую очередь будем обращаться к силлабо-тонической поэзии XVIII века.
Предложенная М. В. Ломоносовым языковая реформа открыла «…широкие возможности для быстрого и успешного развития русской литературы – и поэзии, и прозы» [1, с. 13] и определила пути развития русской поэзии, что не могло не отразиться и на визуальном облике стихотворного текста.
Жанры и жанровые формы высокого и среднего «штиля», такие как оды, элегии, эпические песни, письма, послание и проч., в классицистической традиции в визуальном плане в большинстве своем имеют традиционный для этой эпохи визуально-графический облик: ритмико-интонационный рисунок стихотворений в основном представлен силлабо-тоническими размерами с соразмерными строками при отсутствии сверх-длинных и сверхкоротких строк. В таких стихотворениях используются традиционные, совпадающие с синтаксическим делением предложений переносы, значительно реже – анжамбеманы, дробящие предложение на короткие строки в одно–два слова; лаконичное (эпизодическое), жанровотематическое и семантически обусловленное использование прописных и строчных букв, а также курсивного выделения, структурно обусловленные отступы (выступы) строк, традиционный облик классических строф и т. д. Эти признаки становятся эталонными, именно они будут восприниматься читателем как того времени, так и последующих эпох в качестве визуально-графических маркеров классического стихотворного текста.
В творчестве Н. Н. Поповского, ученика М. В. Ломоносова, представлен популярный для эпохи жанр письма. Письмо у Поповского представляет собой строфическую полиметрическую композицию с большими стиховыми фрагментами (строфами от шести до тридцати шести и более строк в каждой) и длинными строками, написанными шестистопным ямбом. В визуально-графическом плане такой стихотворный текст выглядит достаточно тяжеловесно и монолитно (ниже приведена строфа из «Опыта о человеке господина Попе. Письмо четвертое о естестве и состоянии человека в рассуждении первого благополучия»):
Чин, титул, чести знак царь может дать удобно, Царь! временщик его то сделает способно.
Твой род за тысячу пусть происходит лет, И от Лукреции начало пусть ведет,
Но из толикого прапрадедов народу
Лишь теми ты свою показывай породу,
Которые в себе имели бодрый дух
И удивили свет величеством заслуг.
Когда ж твой будет род старинный, но бесславный, Не добродетельный, бездельный и злонравный, То хоть бы он еще потопа прежде жил,
Но лучше умолчать, что он весь подлый был, И не внушать другим, что чрез толико время Заслуг твое отнюдь не показало племя.
Кто сам безумен, подл и в лености живет,
Того не красит род, хотя б Говард был дед [1, с. 89].
Длина стиха (стихотворной строки), формирующаяся шестистопным ямбом, утяжеляет облик стихотворений и других жанров иной строфической организации с меньшим количеством строк (например, в стихотворении Н. Н. Поповского «Начало зимы!»):
Пустился с востока лед по невским быстринам, Спиралися бугры, вода под ним кипела
И, с треском несшися в морской залив, шумела.
Крутятся все струи крестами по холмам [1, с. 78].
Интересной особенностью стиля, а также визуальным маркером писем Н. Н. Поповского являются повторы в начале строк, которые на фоне такой многострочной тяжеловесной строфы, написанной шестистопным размером, становятся средством акцентирования внимания читателя и дополнительным маркером визуализации классицистического стихотворного текста (лексический повтор «почто» в стихотворении «Опыт о человеке господина Попе»):
Пускай: даю ему все выгоды земные, Дух крепкий, здравие, сокровища драгие, Но ты бы и тогда опять меня спросил, Почто ему творец пределы положил?
Почто он не в чести? почто он не прославлен? Почто на высоте престола не поставлен?
Но что ты временных лишь требуешь благих, Почто не ищешь ты благ вечных вместо их?
Ты лучше б спрашивал: почто с начала века Бессмертным не создал бог богом человека?
[1, с. 87]
Подобный пример встречается достаточно часто и у других поэтов, например, у А. И. Дубровского в стихотворении «На ослепление страстями».
На фоне точной, грамматической, одноударной и однородной конечной рифмы начальная рифма (или анафора, или лексический повтор слов в начале строки) в текстах этого времени усиливает визуальную урегулированность текста, а также служит средством акцентирования внимания на важной мысли, смене повествования, напряженном эмоциональном моменте и проч.
Одическая строфа поэтов XVIII века в визуально-графическом плане достаточно однообразна и многократно представлена в классическом виде десятистишия с определенной схемой рифмовки, со средней или длинной строкой, написанной четырехстопным или более ямбом (реже – хореем), с равным отступом всех строк справа и проч. Но при этом в стихотворениях, например, А. П. Сумарокова (и в одах в том числе) наблюдаются специфические, как индивидуально-авторские, так и характерные для эпохи приемы оформления стихотворных текстов, которые проявляются на всех уровнях текста, в том числе и на графическом. «Оды разные» А. П. Сумарокова представляют разные эксперименты с формой оды: изменение количества строк в строфе (например, ода «Достойная любви», четырехстрочные «Венере» и проч.), или изменение размера (использование силлабики в «Оде горацианской» вместо четырехстопного ямба, четырехстопный хорей в «Оде на Фортуну» и др.), или использование астрофиче-ского стиха в «Анакреонтических одах» и т. д.
Интересна в этом плане «Ода XII, подражен-ная Горацию», построенная в виде диалога, где реплики мужчины и женщины оформлены трехстишиями, которые вместе составляют конечную часть оды (одическое последнее шестистишие со схемой рифмовки: CCd EEd):
Любовникъ.
Доколѣ ты меня любила,
И мнѣ невѣрностью своей не согрубила, Я щастливяе всѣхъ считалъ себя, бывъ милъ.
Любовница.
Доколѣ я была любима,
И только лишъ одна тобой приятна зрима,
Я щастливяе всѣхъ, ты всѣхъ миляй мнѣ былъ [3, с. 153].
Кроме того, в этой оде используется шрифтовое выделение наименований участников диалога, что служит для визуального выделения смены ролей. Курсив как средство выделения дополнительного компонента стихотворного текста, выполняющее вспомогательную функцию, а также отступы строк вправо от основного текста создают впечатление драматургического произведения, что делает оду более динамичной и придает ее визуальнографическому облику нетрадиционный вид.
Встречаются случаи замены вербального компонента стихотворного текста графическими знаками (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин и др.), например, использование многоточия в середине строки. Многоточие является графическим эквивалентом пропуска имени, которое предполагается вписать в оду, хотя при этом метрические характеристики соблюдены (и добавление имени повлияет на изменение размера), как, например, в оде «Благодарности»:
И видитъ мыслію Правителя онъ свѣта.
Благодѣяніе...... рачительна Отца.
Различныя дары во всѣ дающа лѣта
И щедраго Творца [3, с. 196].
А. А. Ржевский, несмотря на приверженность классическим традициям (вслед за А. П. Сумароковым), также оставил потомкам интересные оды, отличающиеся от классического образца и в визуальном плане тоже (например, «Ода 1» или «Ода, собранная из односложных слов»):
Как я стал знать взор твой,
С тех пор мой дух рвет страсть:
С тех пор весь сгиб сон мой;
Стал знать с тех пор я власть.
Хоть сплю, твой взор зрю в сне,
И в сне он дух мой рвет:
О коль, ах, мил он мне!
Но что мне в том, мой свет?
Он мил, но я лишь рвусь;
Как рвусь я, то ты знай.
Всяк час я мил быть тщусь;
Ты ж мне хоть вздох в мзду дай [3, с. 213].
Строфическая организация стихотворного текста также является визуальным маркером, позволяющим судить о графической специфике поэтического текста.
В большинстве текстов «высокого штиля» очень редко встречаются какие-то отличительные, экспериментальные визуально-графические особенности, выходящие за пределы традиционного облика, а если и встречаются, то тоже являются достаточно регулярно повторяющимися у других авторов этого времени. Так, отказ от прописной буквы в начале предложения после восклицания или вопроса в поэтической традиции XVIII века (этот прием мы встречаем у В. В. Капниста, Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова и других авторов, затем и в XIX веке) можно считать прецедентным для отказа от традиционной пунктуации в стихотворных текстах ХХ столетия.
Впоследствии, уже ближе к концу XVIII века, мы все чаще сталкиваемся с отходом от канона в жанровом, семантическом, композиционном, а также визуальном отношении. В визуально-графическом отношении такие произведения будут представлять собой уже более легкий для восприятия текст, не столь монументальный и монолитный.
Показательным является сравнение визуального рисунка текстов разных «штилей». На рис. 1 представлены два стихотворных фрагмента – послание «Галактиону Ивановичу Силову» В. В. Петрова (1736–1799) и басня «Волк и лисица» А. А. Ржевского:
Так. Силов! рассвело, воспрянем ото спа. Hat бодрствовать манат прекрасная весна; Растворим чувствия, способности разбудим И размышленьем мысль быстряе течь принудим. Сильна привычка всех успехом наделять; Стреляньем учатся без промаху стрелять, Талантам надобны возделанья всегдашни, Провзращают терн сброшенные пашня. Теряет прытость конь, я поездах ле служа, Меч праздный, сколь из остр, снедает вредна ржа. Ум пнщв требует, в знать его стремленье; Самой души душа есть хпальво упражненье. Всё можно иметь упорностью труда, Берут высокие приступом города.
Коль станем спать, пли сметь поджав мы руки, Не канут с небеси нам сами з мозг науки; ' Пот нужен, пот сего к снисканию добра, Оно нетленнее а злата и сребра.
Есть всей вещам цепа, богатый в чин достуонт, Ио просвещения он пеиязысл не купит.
Царь вотчины дарит и гордый блеск честен, Но царь не даст ума и живости страстей. Свет мыслей бдением приобретают люди, От нашей собственной здесь всё зависит гоня.
Лисица с Волком побранилась,
Лисица очень осердилась И хочет Волку мстить, Лукавством хочет Волка погубить Охотников опа ноаыша близко в поле, тТеперь-то,—думает,—злодей и моей уж воле». Пошла к охотникам, о Вике чтоб сказать
И где он, указать, Из лесу только лишь к собакам появилась, То аыдмлпа совсем ее переменилась.
Ее
Собаки самое Поймали И растерзали.
Рва недругу не рой, в рок сам та попадешь. Искав другим беды, беду себе найдешь,
В. В. Пярт
|1,
Рис. 1. Сравнение визуального облика стихотворений разных жанров
Fig. 1. Visual graphical design of the verse texts of the different genres
В более «народных» жанрах, «среднего» или «низкого штиля» – мадригалах, песнях (народных), баснях, притчах (бытовых), эпиграммах и др. – поэты более свободны в выборе средств, в том числе и визуально-графических. Появляются тексты с вариациями строк разной длины и стопности в пределах одной строфы, чередования строф разного объема в рамках одного стихотворения, интересные анжамбеманы, нетривиально дробящие предложение на фрагменты и формирующие короткие и сверхкороткие строки с одновременным чередованием их с длинными строками, курсивные выделения слов, фигурные стихи и т. д.
Например, у А. А. Ржевского встречаем достаточно интересные и разнообразные визуальные приемы, такие как, например, вставка иконического фрагмента в стихотворный текст классического вида (стихотворение-притча «Муж и жена», рис. 2):
«Нет, Мой свет, Неложно То. что с тобой И жить не можно. Как с доброю женой. С двора всегда ты ходишь; Тебя по вся дни дома нет. Не знаю, с кем приязнь ты водишь;
Нельзя ужиться нам с тобой, мой свет.
Гуляй, да только меру знать в том должно; Похвально ль приходить на утренней заре? По всякий день гулять тебе жена, не можно. Лишь то льзя похвалить, что есть в своей поре.
Ты худо делаешь, жена, неложно, А ходишь только, чтоб тебе гулять, И дом пустой ты оставляешь. Хожу и я, да торговать;
А ты всегда лытаешь».
«Как мне бы не ходить. Где ж хлеб достати? Тебе так жить Некстати: Не всяк Так живет, как мы с тобою;
Иной не ссорится по смерть с своей женою».
Сем мужу своему, жена мнит, угожу;
Что слушаюсь его, ему то докажу, И буду поступать всегда по мужней воле, С двора уж никуда ходить не стану боле. На завтрея домой как с торгу муж пришел, И дома он свою хозяюшку нашел.
Рис. 2. А. А. Ржевский «Муж и жена» [1, с. 214] Fig. 2. A. A. Rzhevsky «Husband and wife»
Встречаются также тройные сонеты (рис. 3), которые представляют собой два сонета, полустишия которых также могут быть прочитаны последовательно, составляя таким образом третий сонет. Автор предлагает нетипичное для этой формы визуальное решение и некую игровую рецепцию:
95. СОНЕТ, 31ЫЮЧ1МЩПЙ В СЕВЕ ТРИ МЫСЛИ!
читай весь по порядку, одни первые полустишия и другие полустишия
Вовеки не пленюсь Ты ведай, я тобой По смерть не пременюсь; Век буду с мыслью той,
Не лестна для меня Лишь в свете ты одна
Скажу я не маня:
Та часть тебе дана
Быть ввек противной мне, В сей ты одна стране Мне горесть и беда,
Противен мне тот час, Как зрю твоих взор глаз, Смущаюся всегда
красавицей иной;
всегда прельщаться стану, вовек жар будет мой, доколе не увяну.
иная красота;
мой дух воспламенила.
свобода отнята — о ты, что дух пленила!
измены не брегись, со мною век любись.
я мучуся тоскою, коль нет тебя со мной; минутой счастлив той, и весел, коль с тобою.
Рис. 3. А. А. Ржевский «Сонет, заключающий в себе три мысли» [1, с. 217]
Fig. 3. A. A. Rzhevsky «A sonnet containing three thoughts»
Широко известны фигурные стихотворения-надписи А. П. Сумарокова, написанные в форме креста (их всего семь во всем собрании сочинений автора (рис. 4)), или в форме звезды (встречается единожды), жанровая принадлежность которых уже говорит об эстетической, орнаментальной природе такого типа текстов.
Cie жилимое, Посвятила»
ВТОРАЯ ЕКАТЕРИНА,
ДевамЪ ,
Дабы , Воспитанныя вЪ немЪ, Научився добродетели, и
СтавЪ
Достойными дочерями Отечеспгра своего. Были после матерями, ДоетоймыхЪ сыновЪ отечества* Ко славе , Нашего века , и Ко славе Имени
В Е Д И К I Я ЕКАТЕРИНЫ.
Рис. 4. А. П. Сумароков «Сие жилище…» [6, с. 271] Fig. 4. A. P. Sumarоkov «This dwelling...»
Аналогичную функцию выполняет эпитафия «На смерть Суворова» Г. Р. Державина, в которой строки образуют собой очертания гробницы полководца.
Характерной особенностью визуальнографической манеры поэтов XVIII века становится одинарный отступ строки вправо от основного текста, а также двойной и даже тройной отступ вправо в строфе, когда строки последовательно сдвигаются вправо, образуя «лесенку», (например, в «Одах разных» А. П. Сумарокова).
Выводы
Поэзия XVIII века формирует и постепенно аккумулирует средства визуальной графики в стихе. Эти признаки связаны с разными аспектами стиха: с формированием визуальных маркеров стихового размера, рифмы (рифмовки) и их смены, со строфической организацией текста, с «семантическим ореолом» метра, с жанровыми особенностями стихотворений, с традицией книгопечатания и многими другими аспектами. Функциональная значимость того или иного жанра / жанровой формы также оказывает влияние на визуальнографические особенности текста. Визуальный облик серьезных «высоких» и «средних» стихотворений в классицистической традиции в плане графики более урегулирован и традиционен, а если и имеет отличительные, экспериментальные визуальные приемы, то они вписываются в существующую традицию оформления поэтических текстов.
Постепенное накопление визуальнографических особенностей стихотворного текста отражается в появлении все большего количества отклонений от образцов. В визуальном плане стихотворения становятся более разнообразными.
Более «народные» жанры «среднего» или «низкого штиля» свободны и в выборе средств, в том числе и визуально-графических.
Таким образом, визуальный рисунок стихотворений среднего и низкого штилей более разнообразен, что подчеркивает игривость содержания и игровую эстетику текста (например, если это бытовая притча или песня), делает разнообразным ритмический рисунок стихотворения, помогает уловить смену тематики, сюжетное развитие композиционной структуры, усиливает народный песенный характер, акцентирует внимание на наиболее важных моментах, рождает иконическую ассоциативность (образность, порождаемую визуальными средствами) и проч.
Впоследствии накопление визуальнографических признаков выходит на новый уровень – эксперименты с разными стиховыми характеристиками, в том числе и визуальными – и появляются индивидуально-авторские графические особенности (такие как своеобразное использование тире в идиллиях и эклогах А. П. Сумарокова или многоточие в поэзии Н. М. Карамзина, курсив у В. А. Жуковского и проч.).
Поэзия XVIII века представляет собой значительное наследие, оказавшее неоценимое влияние на формирование и развитие классического силлабо-тонического стиха и установление традиций его визуальной модели.
Список литературы Визуальная поэтика стихотворных текстов XVIII века
- Поэты XVIII века: в 2 т. / сост. Г. П. Ма-когоненко и И. З Сермана ; вступ. статья Г. П. Макогоненко [с. 3–72] ; биогр. справки И. З. Серма-на. – Л.: Сов. писатель. [Ленингр. отд-ние], 1972. – Т. 1. – 624 с.
- Ломоносов, М. В. Полное собрание сочинений: в 11 т. / М. В. Ломоносов. – М. ; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. – Т. 8. – Поэзия. Ораторская проза. Надписи. – М. ; Л., 1959. – 1261 с.
- Сумароков, А. П. Полное собрание всех сочинений: в стихах и прозе: в 10 ч. / А. П. Сумароков. – М., 1781. – Ч. 2: Оды торжественныя ; Оды разныя ; Оды вздорныя ; Слово I–VIII. – М., 1781. – 360 с.
- Лотман, Ю. М. О поэтах и поэзии: анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман. – СПб., 1996. – 846 c.
- Гаспаров, М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. – Изд. 2 доп. / М. Л. Гаспа-ров. – М., 2001. – 287 с.
- Сумароков, А. П. Полное собрание всех сочинений: в стихах и прозе: в 10 ч. / А. П. Сумароков. – М., 1781. – Ч. 1: Преложенiе псалмовъ ; Оды и другiя духовныя сочиненiя и преложенiя ; Надписи ; Отрывки ; Описанiе огненнаго пред-ставленiя, въ перьвый вѣчеръ, новаго года 1760 ; Епистолы ; Наставление хотящим быти писателя-ми. – М., 1781. – 364 с.
- Сочинения Державина / С объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота. – Т. 1–9. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1864–1883. – Т. 1, 1864. – 812 с.
- Западов, А. В. Поэты XVIII века (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин) / А. В. Западов. – М., 1979. – 311 с.
- Ларкович, Д. В. Г. Р. Державин и художественная культура его времени: формирование индивидуального авторского сознания: моногра-фия / Д. В. Ларкович. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2011. – 341 с.
- Леванова, Е. П. Проблематика изучения творчества Г. Р. Державина в российском литературоведении XX века // Огарёв-Online. – 2017. – № 4 (93). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ problematika-izucheniya-tvorchestva-g-r-derzhavina-v-rossiyskom-literaturovedenii-xx-veka (дата обращения: 18.03.2023).
- Полякова, Л. В. Г. Р. Державин: к концепции современного прочтения поэтического творчества / Л. В. Полякова // Вестник ТГУ. – 2008. – № 7. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/g-r-derzhavin-k-kontseptsii-sovremennogo-prochteniya-poeticheskogo-tvorchestva (дата обращения: 18.03.2023).
- Семьян, Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста / Т. Ф. Семьян. – Челябинск, 2006. – 251 с.
- Япишина, А. Е. Функции графического эквивалента текста в поэзии Е. Мнацакановой / А. Е. Епишина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2022. – Т. 22, № 1. – С. 114–119.
- Levitt, M. C. Sumarokov and the unified poet-ry book: «Ody Torzhestvennyya» and «Elegii Lyubov-nyya» through the prism of tradition / M. C. Levitt // RUSSIAN LITERATURE. – Т. 52, Вып. 1–3. – 2002. – Р. 111–139.
- Slozhenikina, Y. V. Genesis of cultural and political mythology: Trediakovsky (1757), Lo-monosov (1758), Sumarokov (1759) about the origin of Russian nation and Russian language / Y. V. Slozheni-kina, A. V. Rastyagaev // Russian Linguistic Bulletin i1 (5). – 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/ n/genesis-of-cultural-and-political-mythology-trediakovsky-1757-lomonosov-1758-sumarokov-1759-about-the-origin-of-russian-nation-and-russian/viewer (дата обращения: 10.03.2021).
- Greve, C. Writing and the «Subject»: image-text relations in the early russian avant-garde and con-temporary Russian visual poetry / C. Greve. – Am-sterdam: Pegasus, 2004. – 344 р.
- Ellestrom, L. Visual Iconicity in Poetry. Re-placing the Notion of «Visual Poetry» / L. Elles-trom, // Orbis Litterarum. – 2016. – 71:6. – Р. 437–472.
- McAllister, B. J. «Narrative in concrete / concrete in narrative: Visual poetry and narrative theory» / B. J. McAllister // Narrative. – 2014. – Vol. 22. – Р. 234–251.