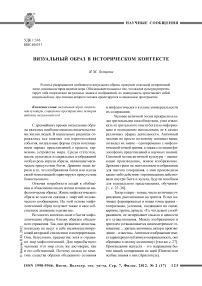Визуальный образ в историческом контексте
Автор: Земцова Ярославна Михайловна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности визуального образа, присущие отдельной исторической эпохе, показана история видения мира. Обосновывается вывод о том, что каждая культура репрезентирует себя посредством визуальных знаков и изображений, их совокупность представляет собой визуальный код, при помощи которого человек ориентируется в социальном пространстве.
Визуальный образ, визуальная культура, социальное пространство, история видения, визуальный код
Короткий адрес: https://sciup.org/14974508
IDR: 14974508 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Визуальный образ в историческом контексте
С древнейших времен визуальные образы являлись наиболее емкими свидетельствами жизни людей. В наскальных рисунках отражались все важные для первочеловека события, визуальные формы стали воплощением первых представлений о красоте, гармонии, устройстве мира. Среди статуэток, масок, культовых и сакральных изображений особую роль играли образы, являющие магическое присутствие богов. Древние люди верили в то, что изображения богов или идолы своей экзистенцией гарантируют присутствие божественного.
Отвечая потребности людей в обобщении и объяснении опыта жизни возникли мифологические образы. Жизнь мифологического образа во многом связана с энергией человеческого воображения. На этой основе мифологический образ получает также и свое собственное движение и развитие.
Во многих аспектах своего бытия мифологические образы близки образам обыденного отражения. Так, они органично целостны, поскольку не несут в себе индивидуализирующей авторской стилистики и интерпретации. Они, безусловно, предметны, хотя и отражают мир мифологический. Для первобытного человека этот мир столь же достоверен, как и его собственный. Поэтому нельзя не заметить сходства образов обыденного сознания и мифологического в плане универсальности их содержания.
Человек античной эпохи прекрасно владел зрительными способностями, умел извлекать из зрительного опыта богатую информацию и полноценно использовать ее в самых различных сферах деятельности. Античный человек не просто по-новому понимал вещи, он видел их иначе – одновременно с мифологической точкой зрения, а также с позиции философских представлений и научных знаний. Сквозной мотив античной культуры – оживающее произведение, живое изображение. Древние греки не использовали изображение для чистого созерцания, с ним производили какие-либо действия: «произведения действовали внутри быта и культа, будучи пособием для театрального представления, обучения» [1, с. 25–26].
Театр и цирк – новые, чисто античные учреждения, рассчитанные на зрителя. В них начинает формироваться и новая точка зрения – театральная, условная, сходящаяся на сцене, картине, труппе, артисте. «То, что делают с изображением, не исчерпывает смысла и ценности его существования. Между изображением и зрителем устанавливается несимметричное отношение: ... зритель анонимен, автор и произведение – известны. Античное изображение имеет характерную публичную направленность, оно обращено к целому коллективу»[там же, с. 27]. Произведения искусств – это подражание бытию вещей, копирование их идей (Платон) или особые знания о них (Аристотель).
В античном искусстве сформировались необходимые условия для возникновения картины как самостоятельного художественного организма – картины в том смысле, в каком культивировало ее классическое искусство Европы.
Художественное видение античности имеет свои характерные черты: «во-первых, также как и в предшествующих культурах, оно связывает человека с сакральным миром (миром богов). Во-вторых, выполняет оно и мировоззренческую функцию, поддерживая мироздание, заданное античной мифологией. В-третьих, художественное видение античности выполняет и функции психического регулирования. Но есть у художественного видения античности еще две функции, отсутствующие в предыдущих культурах, – познавательная (ее особенно подчеркивал Аристотель) и подражательная (сегодня мы бы сказали изобразительная). Обе эти функции обязаны прежде всего воздействию на искусство науки и философии» [2, с. 126].
Особенности видения в Средние века обусловлены в первую очередь тем, что главным объектом внимания в контексте данной эпохи является всемогущий, всезнающий и всеблагой Бог, создавший человека и весь мир и продолжающий определять взаимные связи всех существующих вещей. Равнодушие к миру природных явлений обнаруживается не только в схематическом и символическом их изображении, но и в том, что круг природных явлений, достойных изображения, чрезвычайно узок. Средневековое видение и творчество существенно зависит от религиозной, христианской трактовки (интерпретации) содержания изображения. Эта трактовка делала художественное восприятие «концептуальным», умозрительным, иллюстративным. Но параллельно действовали архаические и античные визуальные установки художественного восприятия, вносящие в видение натурализм, изобразительность, веру в жизненность изображения. «Художник не может полностью воплотить идею произведения через зримые образы, а зритель не может воспринять ее чисто зрительно: главное можно представить себе только мысленно. Изобразительные элементы приобретают характер условных знаков, а изображение организуется в своего рода текст.
В психологическом отношении изобразительность средневековья тяготеет не к образам восприятия, а к образам представления. Задача изображения состоит в том, – рассуждает С.М. Даниэль, – чтобы чувственно означить сверхчувственное. В длящемся на протяжении всей истории соперничестве слуха и зрения средневековье отдает предпочтение первому. Одно из объяснений – культ живого, изустного слова. Иными словами, сообщение, транслируемое через изображение, направлено потенциально безграничной аудитории. Данные зрительного опыта используются средневековым живописцем постольку, поскольку они соответствовали воплощению умопостигаемых образов; иными словами, эти данные служили лишь строительным материалом. Поэтому всякая попытка переложить средневековое изображение на чисто визуальный лад оборачивается противоречием самому духу этой культуры» [1, с. 33–37].
В эпоху Средневековья изображение истолковывается как посредник на пути от зримого к незримому, та же ориентация предписывается восприятию зрителя.
В пору средневековья эстетическое потребление искусства осуществлялось в ситуации, которую условно можно обозначить как ситуацию взаимного ожидания чуда: молящийся ждал от иконы чуда преображения изображенного в первообраз; икона ждала от молящегося чуда духовного преображения. В этом процессе реализации искусства художник не принимал участия, а зритель присутствовал в невыявленной, неосознанной форме, выступая в роли предстоящего, молящегося.
В эпоху Возрождения ситуация меняется. В качестве одного из главных протагонистов выступает художник, а молящийся начинает осознавать себя зрителем. Предстояние иконе переходит в диалог «художник – зритель». Зритель Возрождения, оценивая произведение искусства, тоже видел в нем мастерство создавшего его художника. И если для средневекового человека наивысший критерий оценки иконы – ее нерукотворность, а наивысшее проявление нерукотворности состоит в способности иконы активно воздействовать на предстоящих, изменяя не только духовную, но и телесную природу их, иными словами – в чудот-ворности иконы, то для человека Возрождения искусство прежде всего рукотворно и воздействует на зрителя именно чудом своей рукот-ворности.
XVII в. – новый период в духовной и социальной жизни, связанный с радикальным изменением в методах человеческого мышления. Бурное развитие науки и техники сопровождается сложностью и пестротой художественного изображения реальности. Эмоциональная сторона жизни человека выступает в равновесии с сознающим себя разумом. Искусство поражает силой психологизма и дает поразительные образы рассудительности и самоанализа, реализм проявляется в четкости характеристик, психологическом анализе. Новизна мировосприятия сочетается с простотой воплощения: обществом востребована практичная рациональность.
XIX в. характеризуется взаимовлиянием противоборствующих направлений. Универсальный стиль классицизма дополняется романтическим мироощущением. Классици-стский образ видения мира имеет вполне определенные, четко фиксируемые черты. Этот образ всегда схематизирован, лишен индивидуальности, принадлежности той или иной стране или региону. Художник-классицист должен был элиминировать хаос и беспорядок, присущий реальной природе, и выявить, какую идеальную закономерность мироздания выражает он в своих абстрактных типизированных природных образах. Универсальный стиль классицизма дополняется романтическим мироощущением.
Романтизм отрицал теорию подражания, сухое протокольное копирование. Художник-романтик стремился не просто воспроизводить или открывать различные формы, но, скорее, создавать их. Действительности не нужно подражать, утверждал он, ее нужно изобретать. Тем не менее, несмотря на эту установку, художник-романтик был в конечном счете ближе к природе и намного адекватнее представлял ее.
Ведущий мотив эпохи – поиск единства, стремление к всеохватывающему синтезу.
Связующим звеном при этом выступает классицизирующая тенденция, которая проявляется в поиске образца, совершенства, канона, в рационализме легкообозримых форм и структур.
ХХ в. характеризуется сложным видением мира. Начинаются эксперименты с пространством-временем с целью высвобождения символа, вбирающего человеческие чувства, переживания глобальных событий эпохи. Вместе с тем создается эстетика, обосновывающая ценность будничного, повседневного.
Путь Запада основывался на «непосредственной данности» восприятия и последующей рефлексии о чистом, внутренне однородном субъекте. Восприятие неизменно наделялось предметным содержанием и не существовало вне объекта. Путь Востока обращался к непредметному опыту восприятия, к самому факту присутствия того, кто воспринимает, что предполагало не фиксацию сенсорных сигналов, а развитие сверхчувствительности, открывающей способность различать тончайшие «семена вещей».
Каждой культуре присуща своя образность: она делает себя узнаваемой посредством визуальных знаков и изображений, ей свойственен особый визуальный код, по которому человек, живущий в ней, может без труда ориентироваться в современном ему социальном пространстве. В любой сфере культуры и жизнедеятельности человека – будь то наука, искусство, духовные практики – визуальным образам, визуальному мышлению, восприятию и воображению придается особое значение.
Список литературы Визуальный образ в историческом контексте
- Даниэль, С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя/С. М. Даниэль. -Л.: Искусство, 1990. -223 с.
- Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир/В. М. Розин. -М.: Едитореал УРСС, 2004. -224 с.