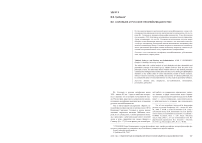Вл. Соловьев и русское неолейбницианство
Автор: Гребешев Игорь Владимирович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (38), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается критический анализ неолейбницианских и иных субстанциалистско-персоналистических представлений о человеческом «Я» со стороны Вл. Соловьева и принципов философии всеединства. Этим обусловлена его полемика с Л.M. Лопатиным, исходившим из монадологических принципов. Автор устанавливает, что для Вл. Соловьева онтологическим статусом может обладать только абсолютная личность и что, вместе с тем, мыслитель искал философскую альтернативу бесконечной цепочке всевозможных детерминистских моделей человеческого бытия. Соловьев исходили из возможности и необходимости христианской философии, однако свободному творчеству личности-субстанции он противопоставлял этику «нравственного детерминизма».
Всеединство, метафизика, неолейбницианство, субстанционализм, персонализм, спиритуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175672
IDR: 170175672 | УДК: 87.3
Текст научной статьи Вл. Соловьев и русское неолейбницианство
Вл. Соловьев и русская метафизика конца XIX - начала XX вв. - одна из наиболее интересных и важных тем в истории отечественной мысли. Рассмотрим, какую роль сыграли идеи основоположника метафизики всеединства в отношении русского неолейбницианства.
Уже в магистерской диссертации «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874) Владимир Сергеевич Соловьев в целом высоко оценивал творческое наследие Лейбница, который, по его убеждению, «своим принципом монады» предложил «действительный синтез понятий души и тела», превзойдя тем самым Декарта и Спинозу [9, с. 17]. В то же время, уже в своей ран ней работе он совершенно определенно указал, что именно в сфере гносеологии видит ограниченность персоналистической монадологии Лейбница1: «...хотя утверждалась самостоятельность и действительность познания как психического акта отдельных монад, но его всеобщее значение и объективное единство являлось сомнительным» [9, с. 20]. Позднее, в книге «Духовные основы жизни» (1882-1884), философ последовательно выступает против всяческой «отдельности»: необходимо «.. .добровольное подчинение Богу, единодушие (солидарность) друг с другом и владычество над природой» [6, с. 271]. Соловьев резко критикует «самолюбие и обособление», «личное, народное, местное», настаивая на том, что «эгоизм или самость» - корень греховного отделения от Бога [6, с. 361].
В конце 1880-х гг. отношение русского метафизика к лейбницианству становится все более критическим. Об этом, в частности, свидетельствуют резкие строки из письма Н.Н. Страхову (8 декабря 1888 г): «Впрочем, Вы верите даже (или притворяетесь, что верите) жалким глупостям Декарта и Лейбница» [4, Т. 1, с. 56]. Через год в статье «О грехах и болезнях» Соловьев высказался по данному вопросу более определенно: «Вопрос о взаимодействии духа и материи есть, как всякому известно, больное место картезианского дуализма и лейбницевой монадологии. Всем известны жалкие попытки решить задачу на почве этих схем. Теория «окказиональных причин» картезианца Гейлинкса и «предустановленная гармония» Лейбница остались в истории философии как последние образцы тех метафизических вымыслов, ни на чем не основанных и ничего не объясняющих» [8, с. 527]. Надо сказать, что если не придавать слишком большое значение резкому и безапелляционному тону этих рассуждений (в конце концов, для Соловьева подобный полемический запал был достаточно характерен), то следует признать, что изменения в позиции мыслителя были не такими уж и радикальными: ведь и в ранних соловьевских трудах «вопрос о взаимодействии духа и материи» признавался «слабым местом» рационалистической метафизики догегелевского периода (включая Декарта и Лейбница).
Вл. Соловьев никогда не причислял себя к гегельянцам и в ряде существенных моментов последовательно противопоставлял собственный принцип «положительного всеединства» гегелевскому панлогизму. Однако в диалектике абсолютного идеализма Гегеля он всегда усматривал колоссальный прорыв философской мысли, ее качественно новый уровень, впервые открывающий путь к пониманию природы взаимосвязи духа и материи [11]. Поэтому нас не может удивлять тот факт, что критика лейбницианской персоналистической метафизики у позднего Соловьева сопровождается прямыми ссылками именно на гегелевскую фило софию. Об этом, например, идет речь в его письме Н.Я. Гроту (12 ноября 1896 г), где автор в шуточных стихах непосредственно обращается к своему близкому другу и верному лейбницианцу-персо-налисту Л.М. Лопатину:
«Левон, Левон! Оставь свою затею, И не шути с водою и огнем...
Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею;
Но и без них мы славно заживем!» [4, Т. 3, с. 271].
Конечно, было бы неверно усматривать в этих иронических образах некую апологию тотальной «текучести» («Гераклитова тока»). Русский метафизик как и был всегда, так и остался верным рыцарем Абсолюта, философского и религиозного.
Наиболее системный характер спор Соловьева с лейбницианским персонализмом приобретает в «Теоретической философии», сборнике последних гносеологических работ философа (1897-1899). Критике здесь подвергается как «мыслящая субстанция» Декарта, так и «индивидуальная душа старой спиритуалистической психологии» [8, с. 821]. Особое же внимание уделяется воззрениям «позднейших спиритуалистов» (фактически, Л.М. Лопатина и других русских неолейб-ницианцев), согласно которым «я есть некоторая сверхфеноменальная сущность, или субстанция, реальный центр психической жизни, имеющий собственное бытие независимо от данных своих состояний» [2, с. XXV-XXVI; 8, с. 796]. Соловьев признает убеждения «спиритуалистического догматизма о безусловной истинности отдельных реальных единиц сознания» лишь в качестве «предположений», имеющих в гносеологическом отношении лишь «условное» значение. Философский же путь - это стремление к безусловному знанию. «Кто думает о самой истине, тот, конечно, не думает тут о своем я - не в том смысле, чтобы он терял самосознание, а в том, напротив, что он приобретает для своего пустого я новое и притом самое лучшее - безусловное содержание, хотя сперва лишь в замысле, в предварении» [8, с. 822].
Формулируя в конце жизни основные гносеологические принципы собственной метафизики, философ вновь отстаивает приоритет онтологизма, в том числе и в сфере познания. Философское мышление, уходя от «мнимой субстанциальности», перемещает «умственный центр тяжести» в «саму истину». Но это приводит и к радикальному онтологическому повороту: перемещается и сам «центр бытия» [8, с. 271]. В познающем субъекте Соловьев различает: душу, как эмпирический субъект; ум, как логический субъект, и дух, как собственно философский субъект. На уровне философского познания очевидной становится условность «эмпирической отдельности и обособленности» «Я»; «Неизбежно философствующий субъект перестает сосредоточиваться на своей мнимой субстанциальности - умственный центр тяжести с внутренней необходимостью перестанавливается из его ищущего я в искомое, те. в саму истину, а эмпирическая отдельность и обособленность его я естественно отпадает по принадлежности в область житейского, практического сознания, переставшего ограничивать круг его истинного самосознания» [8, с. 821-822]. Для философской мысли «границы эмпирического обособления перестают существовать», разбитыми оказываются «оковы» эмпирического существования [8, с. 823]. Философский субъект становится в подлинном смысле сверхличным. Соответственно формулируется и основная гносеологическо-онтологическая задача философии: «Забыть о субъективном центре ради центра безусловного, всецело отдаться мыслью самой истине - вот единственно верный способ найти и для души ее настоящее место: ведь оно зависит от истины, и не от чего более» [8, с. 827].
Обоснование единства бытия и, прежде всего, бытия индивидуально-личностного, с религиозно-философской точки зрения, содержится в поздней статье Соловьева «Понятие о Боге» (1897). «Все существующее имеет в Божестве последнее или окончательное основание своего бытия, свою субстанцию». Эта всеединая и единственно реальная субстанция делает невозможным и даже абсурдным наличие любых иных субстанций (монад и пр.): «если бы даже безусловное основание чего бы то ни было находилось вне Бога, то оно ограничивало бы Его и тем упраздняло бы Его божество». Философ обращается к известным евангельским словам: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет её» (Мф. 10, 39) и предлагает их собственный, философский комментарий: «То, что в этом евангельском изречении называется душою, что мы обыкновенно называем нашим я, или нашей личностью, есть не замкнутый в себе полный круг жизни, обладающий собственным содержанием, сущностью или смыслом своего бытия, а только носитель или подставка (ипостасис) чего-то другого высшего» [7, с. 17, 20].
Принципиальное значение имеет утверждение философа о том, что его антропологическо-гносеологические идеи - это «не самоубийство метафизического существа» человека, а «только нравственное умерщвление его эгоизма» [7, с. 17]. «Существовать в собственном смысле значит быть субстанцией» [10, с. 821] и, в этом смысле, подлинной реальностью бытия обладает только Бог, единственная, божественная субстанция. Человеческая же личность обретает онтологический статус всецело через «нераздельность и неслиянность» богочеловеческих отношений. Бытийственность человека как тварного существа в полной мере определяется связью с Творцом и предполагает, по убеждению Соловьева, непре-кращающиеся творческие усилия каждого человека и человечества в целом на «сверхличных» путях Истины, Добра и Красоты. Ни в какой иной «субстанциональности» личность не нуждается, ее становление и полноценная жизнь раскрывается в истории «богочеловеческих отношений», в прошлом, настоящем и будущем. Поздний Соловьев отстаивал эту свою позицию исключительно последовательно. В статье «Идея человечества у Августа Конта» (1898) он настаивал на эфемерности - в онтологическом смысле - всякого отдельного, сугубо индивидуального бытия, признавая отдельного человека не более чем «абстракцией» по отношению к человечеству как «живому действительному существу» [5, с. 562].
Спор этот получил продолжение в статье Соловьева «Русская философия и литература» (Новости, 1891, №№ 160 и 173). Статья Соловьева была посвящена работе С.Н. Трубецкого «О природе человеческого сознания» (Вопросы философии и психологии, 1891, кн. 6, 7). Соглашаясь с позицией Трубецкого, он резко выступает здесь против лейбницианского персонализма и, непосредственно, против философских воззрений Лопатина [1, с. 69, 70]: «Понятие живого индивида, как существа безусловно простого и единичного, должно быть признано отвлеченною фикцией, за которою могут стоять только умы, лишенные научного образования, или, по крайней мере, незнакомые с новейшими результатами естественных наук». Человеческое я ни в коей мере не может признаваться чем-то самодостаточным, существующим в силу исключительно внутренних индивидуально-личностных факторов: «Если (употребляя механическую терминологию О. Конта) статика человеческой жизни определяется наследственностью и преданием, то ее динамика - исторические движения народов - обусловливается особыми внушениями собирательной общей воли» [3, Т. 3, с. 254-255].
Поразительно, в какой мере религиозный мыслитель-метафизик - никогда, заметим, чтобы обозначить некоторый общий контекст, не проявлявший как будто бы серьезного интереса к историческому детерминизму марксистской теории и начавший свой творческий путь с решительной критики позитивизма - оказался способен воспринять всю серьезность аргументов (ссылка именно на О. Конта, в данном случае, конечно, не случайна), указывающих на фундаментальную важность проблемы многообразных форм жизненно-исторической несвободы человека. В этом отношении он безусловно предчувствует и, можно сказать, предвосхищает значение проблематики такого рода в философии XX в. Столь же определенно можно утверждать, что Соловьев, глубочайшим образом осознавая всю сложность философской апологии человеческой свободы в условиях буквально с каждым десятилетием набирающего силу процесса обезличивания человека и его деятельности, продолжал искать философскую альтернативу бесконечной цепочке всевозможных детерминистских моделей человеческого бытия. Соответственно, и полемизируя с Лопатиным, в воззрениях которого он подобной альтернативы не находил, Соловьев утверждает: «Если существование человеческого общества во всех его коренных формах и функциях основано на безличных и сверхличных данных, то его положительный прогресс зависит от личности и ее свободы, без которой нет ни права, ни власти, ни познания, ни творчества» [4, Т. 3, с. 256]. Свобода в этом смысле - это творческий проект человека. Но не человека суверенно-индивидуального, не духовной и социально-культурной монады, а личности, творчески утверждающей себя в процессах «сверхличных» и даже «безличных», и, тем самым, обеспечивающей возможность реального «положительного прогресса».
Соловьев ни в коей мере не желает жертвовать свободой и в сфере познания. Именно философия, по его убеждению, несет ответственность за гносеологическую свободу. «И помимо унаследованных традиционных начал, человек должен в свободе своего сознания логически мыслить и познавать подлинную истину, вселенскую правду и осуществлять ее в своем действии». Целью же творческих усилий человека и человечества в метафизике всеединства Вл. Соловьева является, как мы знаем, «богочеловеческий общественный организм, в котором всеобщее сверхличное бытие проявляет свой истинно-абсолютный характер, свою полноту и цельность, не подавляя и не пожирая индивидуальных существований, а исцеляя и воскрешая их» [4, Т. 3, с. 256-257].
Вопросу о свободе воли серьезное внимание уделяется в фундаментальном труде Вл. Соловьева «Оправдание добра» (1897). В книге не упоминаются русские персоналисты и, непосредственно, Лопатин, однако вполне очевидно, что именно их представления о свободном творчестве личностей-субстанций критикуются достаточно систематически. В частности, это имеет отношение к развиваемой Соловьевым концепции нравственного детерминизма или идейно-разумной необходимости. О подобном детерминизме можно говорить в том случае, когда разум представляет воле «идею добра» или «нравственный закон» во всей «ясности и полноте». Нравственно детерминированное действие и есть действие «разумно-свободное». «Нравственность и нравственная философия всецело держится на разумной свободе, или нравственной необходимости, и совершенно исключает из своей сферы свободу иррациональную, безусловную, или произвольный выбор». Причем Соловьев специально оговаривает, что «разумная свобода» не есть «свобода воли» и настаивает, что «этика не только совместима с детерминизмом, но даже обусловливает собою высшее обнаружение необходимости» [8, с. 117].
Совершенно ясно, что по убеждению философа речь не может идти ни о какой трактовке воли как своеволия в области нравственных отношений. В сфере морали «воля есть только определяемое, а определяющее есть идея добра, или нравственный закон - всеобщий, необходимый и ни по содержанию, ни по происхождению своему от воли не зависящий» [8, с. 115]. При этом вполне допустимо говорить о нравственной свободе как свободе от механической и психологической необходимости. Именно эту свободу обретает человек, следуя «высшей необходимости абсолютного Добра». Как известно, Вл. Соловьев, вслед за своим учителем Д.П. Юркевичем, был склонен противопоставлять традицию платонизма кантианству. В «Оправдании добра» также содержится критика кантовского морализма. Однако в вопросе о недопустимости субъективистского своеволия в области нравственности русский метафизик особенно близок к идее категорического императива Канта: «Когда человек высокого нравственного развития с полным сознанием подчиняет свою волю идее добра, всестороннее им познанной и до конца продуманной, тогда уже для всякого ясно, что в этом подчинении нравственному закону нет никакого произвола, что оно совершенно необходимо» [8, с. 117].
В «Оправдания добра» Соловьев также обращается к вопросу о попущении Богом зла: «Бог отрицает зло как окончательное, или пребывающее, и в силу этого отрицания оно и погибает, но Он допускает его как преходящее условие свободы, т.е. большего добра. Бог допускает зло, поскольку, с одной стороны, прямое его отрицание или уничтожение было бы нарушением человеческой свободы, т.е. большим злом, так как делало бы совершенное (свободное) добро в мире невозможным, а с другой стороны, Бог допускает зло, поскольку имеет в своей Премудрости возможность извлекать из зла большее благо, или наибольшее возможное совершенство, что и есть причина существования зла» [8, с. 260]. Соловьев, таким образом, приходит к выводу - в полной мере отвечающему основополагающим принципам христианского богословия - о свободе как необходимом и решающем условии нравственной жизни. Но для философа это именно «разумная свобода», исключающая всякий произвол в сфере нравственности. Иной свободы онтология всеединства просто не допускает. Иррациональность и произвол не попадают в ее пределы. Вл. Соловьев был склонен видеть в них лишь иллюзию свободы, скрывающую различные формы механического и психологического детерминизма. В этом смысле тяготение к злу - всегда есть выбор пути рабства, а не свободы.
Список литературы Вл. Соловьев и русское неолейбницианство
- Лопатин Л.М. Вопрос о свободе воли//Аксиомы философии. Избранные статьи. М.: РОССПЭН, 1996. С. 21-83.
- Лопатин Л.М. Положительные задачи человечества. Ч. I. Область умозрительных вопросов. М.: Типо-литография И.Н. Кушнеров и К°, 1911.
- Мысль и слово. Философский ежегодник/Под ред. Г. Шпета. № II. М.: Изд. С. Сахарова, 1918-1921.
- Письма B.C. Соловьева в 3 т. СПб.: «Общественная польза», 1908-1911.
- Соловьёв B.C. Идея человечества у Августа Конта//Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 562-581.
- Соловьев B.C. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва (в 9 т.). Т. 3. СПб.: «Общественная польза», б/г.
- Соловьев B.C. Собрание сочинений. Т. 1-8. Т. 8. Санкт-Петербург, Издание товарищества «Общественная польза», 1903.
- Соловьев B.C. Сочинения в 2 т. Т.1. М.: Издательство «Правда», 1989.
- Соловьев B.C. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988.
- Соловьёв B.C. //Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 757-831.
- Трубецкой Е.Н. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 2. М. Московский философский фонд, "Медиум". 1995.