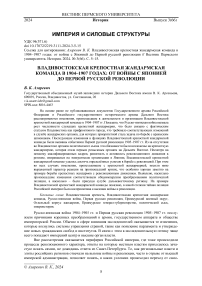Владивостокская крепостная жандармская команда в 1904-1907 годах: от войны с Японией до первой русской революции
Автор: Азаревич В.К.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Империя и силовые структуры
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
На основе ранее не публиковавшихся документов Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного исторического архива Дальнего Востока рассматриваются изменения, произошедшие в деятельности и организации Владивостокской крепостной жандармской команде в 1904-1907 гг. Показано, что Русско-японская война вызвала рост численности служащих крепостной жандармерии, что было связано с фактическим статусом Владивостока как прифронтового города, что требовало соответствующих изменений в службе жандармских органов, для которых приоритетной стала задача по борьбе с вражеским шпионажем. Последующие изменения в функциях Владивостокской крепостной жандармской команды были вызваны событиями Первой русской революции 1905-1907 гг. Из-за отсутствия во Владивостоке органов политического сыска эти обязанности были возложены на крепостную жандармерию, которая стала первым розыскным органом на Дальнем Востоке. Несмотря на нехватку квалифицированных кадров, развитость и активность революционного движения в регионе, опиравшееся на эмигрантские организации в Японии, Владивостокской крепостной жандармской команде удалось достичь определённых успехов в борьбе с революцией. При этом во всех случаях изменения, происходившие с крепостной жандармерией, носили явно выраженный характер реакции на произошедший кризис, что особенно хорошо заметно на примере борьбы крепостных жандармов с революционным движением. Выявлено, насколько произошедшие изменения соответствовали общеимперским преобразованиям политической полиции, а насколько - были присущи сугубо дальневосточному региону. На примере Владивостокской крепостной жандармской команды показано, в какой степени тайная полиция Российской империи была восприимчива к вызовам войны и революции.
Владивостокская крепость, владивостокская крепостная жандармская команда, русско-японская война, первая русская революция, приамурский военный округ, отдельный корпус жандармов, приамурское генерал-губернаторство, политический сыск, микроистория
Короткий адрес: https://sciup.org/147246552
IDR: 147246552 | УДК: 94(571.6) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-5-15
Текст научной статьи Владивостокская крепостная жандармская команда в 1904-1907 годах: от войны с Японией до первой русской революции
Русско-японская война 1904‒1905 гг. и Первая русская революция 1905‒1907 гг. послужили причинами коренных преобразований в армии, государственном аппарате и обществе императорской России. Обычно в сфере внимания исследователей оказываются те изменения, которые коснулись системы управления страной, такие как появление парламента и утверждение новых гражданских свобод и институтов. В связи с этим в исследовательскую оптику чаще всего попадают имперский центр и высшие орган власти.
Вне рассмотрения оказывается периферия Российской империи, где тоже происходили процессы революционного характера, ответы на которые местным властям приходилось зачастую искать самим, не дожидаясь ответа из Санкт-Петербурга. То, как региональные власти и элиты российских регионов отвечали на вызовы войны и революции, часто в отрыве от высшей имперской администрации, позволяет понять, в каких условиях происходил переход от само
державной к думской монархии, как протекала революция, насколько адекватны были восприятие ее угроз и борьба с ней, как именно война с Японией повлияла на эти события.
В связи с этим особый интерес представляет Дальний Восток России или, как его называли в начале ХХ в., Приамурский край. С первых дней войны с Японией он был ближайшим тылом Маньчжурского театра военных действий. Владивосток находился с начала боевых действий на осадном положении, войска Приамурского военного округа были мобилизованы и участвовали в боевых действиях, местные власти ожидали высадок японских десантов на юге Приморья и в устье Амура. Соответственно этим ожиданиям и угрозам местные органы власти еще в начале войны были приведены в состояние повышенной готовности, а революционные события спровоцировали продление этого особого режима до 1907 г.
То, как местные органы власти вели себя в условиях почти четырехлетнего чрезвычайного положения, связанного с войной и революцией, позволяет понять, насколько местные органы власти Российской империи в целом оказались готовы к обрушившимся на них вызовам и какова была степень адекватности их реагирования. Особую ценность представляет опыт органов безопасности, которые в короткий срок были вынуждены переориентироваться от борьбы с внешним врагом в виде военного шпионажа к борьбе со слухами, а после ‒ и революционной деятельностью.
Поскольку точкой наибольшего напряжения в дальневосточном тылу был Владивосток, подвергшийся в феврале 1904 г. обстрелу со стороны японской эскадры, объектом рассмотрения в данной статье естественным образом станет главный военно-полицейский орган безопасности города ‒ Владивостокская крепостная жандармская команда, сформированная в 1896 г. при Жандармском полицейском управлении (ЖПУ) Уссурийской железной дороги (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 413. Л. 1). Учитывая то, что в рамках исследования речь пойдет о сравнительно небольшом подразделении политической и военной полиции, то основным методом изучения его деятельности и функций станет распространенный в микроистории метод плотного описания, при котором предпочтение отдается максимально плотному описанию изучаемого объекта с использованием исторических источников.
К 1904 г. Владивостокская крепостная жандармская команда представляла собой сравнительно небольшое военно-полицейское подразделение, в состав которого входили двенадцать человек: начальник команды, вахмистр и десять унтер-офицеров [ Качкин , 2013, с. 64]. Спектр ее обязанностей был весьма широк. Сюда входили борьба с военным шпионажем на территории крепости, поддержание воинской дисциплины и расследование воинских преступлений, охрана общественного порядка и благочиния, выполнение функций общей полиции в административной и уголовной части на территории крепости, контроль за торговлей и выполнением трудового законодательства при строительстве крепостных сооружений, а также сбор сведений о всех подозрительных лицах, проживающих в районе крепости. В мирное время по всем вопросам военно-полицейской службы она подчинялась начальнику штаба крепости, а по вопросам жандармской службы ‒ начальнику ЖПУ Уссурийской железной дороги. Малочисленность команды была причиной того, что со всеми своими обязанностями она в должной мере не справлялась, что выяснилось в 1902 г. во время ревизии, устроенной комендантом Владивостокской крепости Д. И. Воронцом [Там же].
Д. И. Воронец констатировал, что причинами, по которым команда не справляется со своими полномочиями, являются ее малый штат и бездеятельность начальника. Штат команды продолжал соответствовать крепости III класса, несмотря на то что Владивосток был причислен ко II классу еще в 1896 г. (РГВИА. Ф. 13149. Оп. 1. Д. 88. Л. 18 об.). Начальник же команды ротмистр Ю. М. Гириллович по итогам проверки команды был заменен на ротмистра А. К. Марпурга, который зарекомендовал себя деятельным и активным офицером. Стоит также отметить, что 1902 г. был годом, когда Владивостокская крепостная жандармская команда стала подчиняться через ЖПУ Уссурийской железной дороги напрямую начальнику штаба Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ). До этого ЖПУ с входившей в его состав крепостной командой подчинялось начальнику Сибирского жандармского округа, который подчинялся штабу ОКЖ и был ликвидирован в 1902 г. [Румянцев, 2020, с. 43]. Это упрощение внутриведомствен- ной иерархии улучшило взаимодействие между штабом корпуса и жандармами на местах, что должно было повлечь улучшение эффективности работы.
После начала войны с Японией 30 января 1904 г. Владивосток был объявлен на военном положении. 12 февраля 1904 г. Владивостокская крепостная жандармская команда была изъята из подчинения ЖПУ Уссурийской железной дороги и полностью передана в подчинение начальнику штаба Владивостокской крепости в полном соответствии со статьей 658 книги III Свода военных постановлений (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2749. Л. 4). Вся деятельность крепостной жандармерии оказалась замкнута на коменданта Владивостокской крепости Д. И. Воронца. Поскольку он находился в хороших личных и служебных отношениях с начальником крепостной жандармской команды ротмистром А. К. Марпургом, то никаких препятствий к деятельности жандармерии, равно как и конфликтов с вышестоящим военным начальством, к сожалению, обычных для Российской империи, не было. Более того, по мере сил Д. И. Воронец старался улучшить положение подчиненных ему жандармов.
Так, в телеграмме на имя командира ОКЖ он писал, что для лучшего сбора сведений о подозрительных иностранцах и лицах во Владивостоке крепостной жандармской команде требуется выделять 500 рублей в месяц, сверх обычной суммы расходов на ее деятельность (Там же. Л. 11). Поскольку этот отпуск средств можно было осуществить лишь в законодательном порядке, что потребовало бы много времени, штаб ОКЖ разрешил выделять ежемесячно Владивостокской крепостной жандармской команде максимально возможную без согласования с кем-либо сумму в 300 рублей (Там же. Л. 13). Удалось наладить взаимодействие с другими военными учреждениями империи. В феврале 1904 г. штаб Севастопольской крепости сообщил коменданту Владивостокской крепости (а тот ‒ начальнику Владивостокской крепостной жандармской команды), что в гарнизон Владивостока переводят ряд солдат и унтер-офицеров севастопольской крепостной артиллерии, среди которых был ряд политически неблагонадежных солдат. К сообщению этому прилагался список потенциальных революционеров (РГИА ДВ. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 4).
Увеличение бюджетов крепостной жандармерии, как и усиление ее деятельности, потребовали включения новых людей в состав команды. В июне 1904 г. в состав команды было включено четыре унтер-офицера ЖПУ, а для надзора за китайским и корейским населением Русского острова к жандармам прикомандировали одного обер-офицера, четырех унтер-офицеров и восемь стрелков 31-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2749. Л. 15). На протяжении 1904 г. на крепостную жандармскую команду был возложен надзор за торговлей оружием и взрывчатыми веществами, а также выдача разрешений на их приобретение. Начальник команды вместе с представителем военно-морского ведомства и начальником штаба крепости стал членом комиссии по цензуре владивостокских газет, а также он был включен в число цензоров, просматривавших частные телеграммы (Там же. Л. 16).
Как отмечалось в докладе ротмистра Марпурга в штаб ОКЖ, возложение этих дополнительных обязанностей на крепостную жандармскую команду и на ее начальника не сказались в худшую сторону на выполнении обычных военно-полицейских и специальных жандармских функций. Правоту этих слов подтверждает характеристика, которую ротмистру Марпургу дал комендант крепости Д. И. Воронец, который ходатайствовал о присвоении ему очередной награды и писал в прошении на имя начальника штаба ОКЖ, что «служба начальника Владивостокской крепостной Жандармской команды ротмистра Марпурга убеждает меня в прекрасных служебных качествах этого офицера, положившего много труда по установлению должного порядка в несении специальной крепостной службы» (Там же. Л. 5). По всей видимости, таковой наградой стал орден Св. Анны IV степени, врученный Марпургу в 1904 г. «за храбрость» [Список общего состава..., 1909, с. 397].
Одновременно со служебными полномочиями жандармерии увеличивалась и численность крепостного гарнизона, который вырос с 12 до 44 батальонов [Авилов, Аюшин, Калинин, 2013, с. 271]. Этот процесс шел на протяжении всей войны, став особенно активным после падения Порт-Артура в конце 1904 г. Верховное командование ожидало высадки японцев с целью осады города-крепости. По данным генерал-квартирмейстера Штаба главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке генерал-майора В. А. Орановского, японцы подготовили 80 000 че- ловек при 200 орудиях для высадки во Владивостоке и его осады [Там же, с. 253]. Насколько эти данные соответствовали реальности, сказать трудно, но можно утверждать, что свой эффект они возымели: началась эвакуация из Владивостока военных и гражданских учреждений, Восточного института и госпиталей, на юге Приморья стали спешно готовиться оборонительные позиции [Там же]. По мере того как росла военная угроза городу, рос штат Владивостокской крепостной жандармской команды.
В январе 1905 г. комендант крепости запросил у штаба ОКЖ расширения штата крепостной команды на одного офицера и одиннадцать унтер-офицеров, на что получил разрешение (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 10416. Л. 1‒2). 22 января 1905 г. Николай II провозгласил Владивосток крепостью I класса, так как после падения Порт-Артура именно он стал главным оплотом России на Тихом океане (Там же. Л. 13). Это решение автоматически повлекло за собой увеличение штата крепостной жандармской команды, что невозможно было сделать на месте из-за нехватки кадров. В этих условиях были направлены запросы в жандармские управления Варшавы, Витебска, Гельсингфорса, Гродно, Киева, Ковно, Одессы и Риги с просьбой предоставить списки жандармских унтер-офицеров, желающих выехать на Дальний Восток для службы во Владивостоке (Там же. Л. 3-4). В первую очередь добровольцев искали среди служащих Брест-Литовской, Варшавской, Двинской, Киевской, Керченской, Ковенской, Осовецкой, Очаковской, Свеаборгской, Усть-Двинской крепостей. Стоит заметить, что добровольцы нашлись не в каждой из них; например, в Двинской и Осовецкой крепостях таковых не нашлось. Начальник Ковенской крепостной жандармской команды доложил штабу ОКЖ, что желающих поехать во Владивосток нет, но попросил разрешения назначить таковых из числа вверенных ему унтер -офицеров (Там же. Л. 11). Судя по тому, что в архивном документе на телеграмме стоит вопросительный знак, таковая просьба показалась штабу ОКЖ странной и чрезмерной.
В итоге штабу ОКЖ удалось набрать одиннадцать жандармских унтер-офицеров по почти всем крепостям Российской империи от Варшавы до Очакова и от Гельсингфорса до Керчи, которых удалось направить во Владивосток. Кроме того, комендант крепости направил просьбу в Санкт-Петербург о прикомандировании к крепостной жандармской команде еще одного офицера-добровольца, которым стал поручик Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Протопопов (Там же. Л. 54). Весной 1905 г. из Владивостока было эвакуировано ЖПУ Уссурийской железной дороги. Оставшиеся в городе служащие Владивостокского отделения этого управления ‒ начальник и десять унтер-офицеров - были включены в состав крепостной жандармской команды (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2749. Л. 28). Таким образом, численность команды удалось нарастить до 40 человека, из которых трое были офицерами, не считая прикомандированных к команде военнослужащих 31 -го Восточно-Сибирского стрелкового полка на острове Русском.
В августе 1905 г. произошло последнее увеличение штата Владивостокской крепостной жандармской команды. 14 августа, за 9 дней до подписания Портсмутского договора, завершившего Русско-японскую войну, новый комендант крепости генерал-лейтенант Г. Н. Казбек обратился в штаб ОКЖ с просьбой о назначении офицера, достаточно компетентного для проведения дознаний по государственным преступлениям. Поручик Протопопов не справлялся с этим, в силу того что у него отсутствовали специальные знания, поэтому Казбек предложил оставить его заведующим наружным наблюдением (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 10588. Л. 1). На эту должность был назначен бывший помощник начальника Финляндского жандармского управления на пограничном пункте в Выборге ротмистр фон Люде (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2749. Л. 31). До Владивостока он добрался лишь в сентябре 1905 г. В ноябре того же года его должность в связи с окончанием войны была ликвидирована, и в декабре он был зачислен в штат ЖПУ Сибирской железной дороги (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 10588. Л. 23-24).
Помимо служебных мытарств ротмистра фон Люде, осенью 1905 г. произошло более важное для истории Владивостокской крепости событие. 30‒31 октября восстали военнослужащие гарнизона, недовольные условиями своего содержания и задерживающейся демобилизацией. Дополнительно масла в огонь подлило решение Г. Н. Казбека задержать опубликование манифеста 17 октября 1905 г. перед солдатами, что создало благоприятную почву для револю- ционной агитации. Революционные пропагандисты уверяли солдат, что манифестом царь освободил их от какой-либо службы и решил отречься от престола.
Восстание 1905 г. произошло внезапно для военного руководства Владивостока. Оно было быстро подавлено силами лояльных властям казачьих подразделений, а его участники предстали перед судом. При этом следствию не удалось доказать наличие у заговорщиков какого-либо четкого плана действий и, стало быть, тайной организации, которая бы его выработала, несмотря на всю уверенность в их существовании [Обзор революционного движения…, 1908, с. 164-165]. Итогом этого бунта стало присвоение в ноябре 1905 г. Владивостокской крепостной жандармской команде функций по политическому сыску, т.е. ведению тайной агентурной работы с целью выявления потенциальной революционной угрозы и ее устранения (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2872. Л. 6). Здесь стоит заметить, что это решение было нетипичным для структур имперской политической полиции.
Традиционно в Российской империи политическим сыском (и дознанием) занимались губернские жандармские управления. В тех случаях, когда в регионе наблюдалась особая активность революционных движений и партий, Департаментом полиции учреждались охранные отделения, которые должны были сосредоточиться сугубо на сыскной деятельности, оставив дознание губернскому жандармскому управлению. К началу ХХ в. в России было всего три охранных отделения ‒ Варшавское, Московское и Санкт-Петербургское. За два года до начала войны с Японией из-за роста революционно-террористической деятельности по инициативе главы МВД В. К. Плеве стали возникать новые охранные отделения в регионах России. Этот процесс усилился в 1905‒1907 гг. на фоне революции. Поскольку в Приморской области не было ни жандармского управления, ни охранного отделения, то их функции были возложены на крепостную жандармерию.
Это решение носило сугубо чрезвычайный и ситуативный характер, что осознавали, пожалуй, все участники данного процесса, но острее всех это явно ощущал начальник крепостной жандармской команды, в чьих руках оказалось обеспечение всей военной и политической безопасности Владивостокского крепостного района. В этой связи он направил вышестоящему начальству рапорт с просьбой о назначении ему заместителя для заведования командой и ведения наблюдения (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 11521. Л. 50). Эта просьба не могла быть выполнена в силу нехватки жандармских офицеров в регионе, а привлечь кого-то из других губерний и областей империи вследствие революционных событий не представлялось возможным.
Совмещение в одном лице начальника крепостной жандармской команды и заведующего политическим розыском вызвало также конфликт между штабом Отдельного корпуса жандармов и Департаментом полиции. По всем вопросам жандармской службы крепостная команда подчинялась штабу ОКЖ через начальника ЖПУ Уссурийской железной дороги. Политический же сыск в масштабах всей империи координировал и направлял Особый отдел Департамента полиции. Штаб ОКЖ настаивал на том, чтобы все указания по политическому сыску руководство крепостной жандармской команды получало через начальника ЖПУ Уссурийской железной дороги (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 3. Д. 2872. Л. 7). Департамент полиции настаивал на том, чтобы начальник крепостных жандармов получал все указания по политическому сыску напрямую от Особого отдела Департамента полиции, который координировал и направлял борьбу с революцией и терроризмом по всей империи (Там же. Л. 10‒11). В марте 1906 г. этот спор завершился победой руководства ОКЖ, которое апеллировало к иерархии и субординации. Дабы не ставить начальника крепостной жандармской команды выше своего начальника в ЖПУ, штаб корпуса настоял на том, чтобы все указания по политическому сыску, за исключением особо важных, главный крепостной жандарм получал через начальника железнодорожной жандармерии (Там же. Л. 16).
В начале 1906 г. начальник Владивостокской крепостной жандармской команды А. К. Марпруг был переведен на новое место службы в ЖПУ Северо-Западной железной дороги, а в августе того же года на его место был назначен бывший начальник Иркутского отделения ЖПУ Забайкальской железной дороги Вячеслав Капитонович Петров, который смог прибыть на новое место службы лишь в сентябре того же года (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 11521. Л. 41). Все это время временным начальником крепостной жандармерии был предшественник Марпурга подполковник Ю. М. Гириллович, возглавлявший Хабаровское отделение ЖПУ Ус- сурийской железной дороги и командированный во Владивосток с сохранением своей должности. Сама эта ситуация показывает, насколько остра была нехватка жандармских кадров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России в те годы. При этом стоит заметить, что бывшим офицерам железнодорожной жандармерии, привыкшим к повседневной рутине административной и уголовной полицейской службы, коей занимались железнодорожные жандармы, пришлось взять в свои руки военно-полицейскую службу, контрразведку и политический сыск.
Формально Владивостокская крепостная жандармская команда занималась несвойственным ей политическим розыском до образования Владивостокского охранного отделения в конце 1906 г. В реальности же функции политического сыска крепостная жандармерия сохраняла за собой до осени 1907 г. Это было обусловлено тем, что первые три начальника Владивостокского охранного отделения (ротмистр В. К. Петров, подполковники Ю. М. Гириллович и А. Д. Заварицкий) совмещали эту должность с руководством крепостной жандармерией. Учитывая то, что из-за нехватки кадров и особенностей революционного времени не удавалось ни укомплектовать охранное отделение дополнительными офицерами (помощник начальника и чиновник для поручений), ни обеспечить начальника крепостной жандармской команды хотя бы одним помощником, можно сказать, что на протяжении большей части 1907 г., как и в предыдущем 1906 г., военная безопасность и политический сыск находились в руках одного человека, который не всегда был к этому готов морально и профессионально.
Неготовность ротмистра Петрова к службе в столь сложных условиях отмечал комендант крепости (Там же. Л. 32). Сам же Петров указывал на то, что фактически он выполняет обязанности не только начальника крепостной жандармской команды, но и адъютанта ЖПУ по Уссурийской железной дороге и начальника Владивостокского отделения того же управления. При этом он дважды в ноябре 1906 г. просил о назначении к нему офицера для выполнения дознания по государственным преступлениям (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 11521. Л. 49-50). Из-за все той же нехватки кадров эти заявления не привели к какому-либо итогу.
Активная деятельность в области политического сыска для Владивостокской крепостной жандармской команды заключалась в установлении наблюдения за крепостным гарнизоном с целью выявления участников военно-революционных организаций и пресечения их деятельности. Подобную деятельность крепостные жандармы вели и ранее, но весьма спорадически. Например, в июле 1905 г. начальник Владивостокской крепостной жандармской команды ротмистр Алексей Марпург просил начальника Петроковского уездного жандармского управления сообщить все, что известно о музыканте 31-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Франце Матушевском. Причиной интереса к нему послужило то, что на почте были перехвачены отправленные в его адрес листовки Польской партии социалистов - ППС (РГИА ДВ. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 10).
При Петрове же крепостные жандармы перешли к более активной деятельности, тем более что 1906 г. начался во Владивостоке с полномасштабного восстания солдат крепостного гарнизона. Ход этого восстания описан военным губернатором Приморской области В. Е. Флу-гом в его мемуарах: восставшие солдаты 32-го Сибирского стрелкового полка захватили Инно-кентьевскую батарею Владивостокской крепости и направили ее орудия на город. Прибывший для переговоров комендант крепости А. Н. Селиванов был тяжело ранен в шею (ГАРФ. Ф. Р6683. Оп. 1. Д. 19. Л. 96-97). Впоследствии из города отступила часть лояльных войск, а окончательно бунт удалось подавить лишь при помощи переговоров, которые новый комендант крепости Л. К. Артамонов вел с восставшими, отвлекая их от прибытия во Владивосток лояльных властям войск (Там же. Л. 126‒127). Это восстание, как и предыдущие в октябре 1905 г., жандармерии не удалось ни предотвратить, ни хотя бы получить о нем какие-либо сведения. В. Е. Флуг объяснял это отсутствием каких-либо средств для ведения своей деятельности у жандармского начальства (Там же. Л. 134). После подавления очередного восстания эти деньги нашлись, но не в основном бюджете МВД. Снова на выручку властям пришли чрезвычайные меры.
Основным источником финансирования для контрразведывательной и антиреволюцион-ной борьбы крепостной жандармерии стали 1420 рублей в месяц, выделяемые штабом командующего на Дальнем Востоке (РГИА ДВ. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 42). Наблюдение за революционерами велось силами шести сотрудников, которые работали в основном в городе. По мнению ротмистра Петрова, корень всех революционных организаций гарнизона находился за пределами крепости, среди гражданских жителей Владивостока. За месяц работы в своей должности ему удалось выявить несколько подпольных социалистических организаций, тон в которых задавали нижние чины крепостной артиллерии и флотского экипажа, гимназисты, портовые рабочие и железнодорожные служащие (Там же). Всю нелегальную литературу и антиправительственные листовки эти группы получали из Благовещенска, Иркутска, Читы и Японии, где еще в годы войны обосновались революционно настроенные эмигранты. Часть из них приехала в Японию во время войны вести антиправительственную агитацию среди военнопленных, а часть бежала в Нагасаки после подавления восстания в октябре 1905 г. Их деятельность до 1908 г. активно поддерживали японские власти [ Кондратов, Ципкин, 2017, с. 79].
Из-за рубежа поступали не только агитационные материалы. Осенью 1906 г. был арестован машинист парохода «Енисей», у которого при обыске были найдены пироксилиновые шашки (РГИА ДВ. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 46‒47). Позже удалось получить список адресатов эсеровской газеты «Воля», издаваемой в Нагасаки. Среди них оказались жители Батума, Благовещенска, Варшавы, Ейска, Зеи, Имана, Карачаева, Николаева, Ростова-на-Дону, Рыльска, Санкт-Петербурга, Харбина, Харькова и Усть-Ижоры, что красноречиво говорило о роли Владивостока в организации революционного подполья в стране (Там же. Л. 53).
Особую роль в распространении революционных материалов среди солдат крепостного гарнизона играли ссыльнопоселенцы. Так, крепостная жандармерия вела наблюдение за ссыльнопоселенцем Станиславом Становским, который через рядового Степана Мисякевича распространял антиправительственные прокламации. Стоит отметить, что за подобное деяние Мисякевич ранее содержался под стражей в Лодзи (РГИА ДВ. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 64). Другой ссыльнопоселенец Фёдоров пытался вручить номера эсеровской газеты «Воля» бойцам 3-й Артиллерийской Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Солдаты отказались взять у него эти газеты, из-за чего Фёдоров упал перед ними на колени со словами «вы только возьмите их» (Там же. Л. 65).
Выявление отдельных агитаторов, единичных курьеров и даже небольших революционных организаций, вроде военной организации РСДРП в 1907 г., помогали крепостной жандармерии находить, по замечанию военного губернатора Приморья Флуга, второстепенных участников революционного подполья (ГАРФ. Ф. Р-6683. Оп. 1. Д. 19. Л. 259). При этом основной заговор оставался практически вне поля зрения жандармерии. Речь идет о военной организации партии эсеров.
Согласно докладу «Владивостокское восстание в октябре 1907 года», составленному Восточным автономным комитетом партии эсеров в Нагасаки для ЦК, революционное подполье в гарнизоне крепости возникло во второй половине лета 1906 г., а окончательно сложилось к февралю 1907 г. (ГАРФ. Ф. Р-5800. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об.). Единственной целью организации было вооруженное восстание. При этом агитаторам-эсерам удалось развернуть успешную работу в основном среди экипажей кораблей Сибирской флотилии, некоторые из которых сыграли главную роль в восстании 17 октября 1907 г., подняв красные флаги и открыв беспорядочную стрельбу по городу. Гарнизон крепости, к тому времени замененный на более лояльные войска, отнесся к пропаганде эсеров заметно прохладнее, нежели моряки (Там же. Л. 3-4).
Поиск и преследование этой организации осуществляло созданное в начале 1907 г. Владивостокское охранное отделение, начальник которого подполковник Заварицкий исполнял обязанности начальника Владивостокской крепостной жандармской команды. Агентуре удалось в августе ‒ октябре 1907 г. установить факт существования военной организации и получить представление о ее руководстве (ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 65. Л. 4). Удалось установить и цели заговорщиков - восстание во всех регулярных частях Приамурского военного округа в Благовещенске, Владивостоке, Никольске-Уссурийском, Николаевске-на-Амуре и Харбине с целью объявления в регионе социалистической республики (Там же. Л. 6). Среди заговорщиков были выявлены не только нижние чины, но и поручик 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Кесс, а также нижние чины гарнизонных частей. Восстание должно было случиться после 17 октября, и как раз к этой дате готовился арест заговорщиков, но, почувствовав слежку за собой, они приняли решение о восстании именно 17-го числа (Там же. Л. 8).
Это восстание, как и предыдущие два, были подавлены властями. Во Владивостоке было введено осадное положение, снятое вскоре, в начале 1908 г. Несмотря на то что военные и жандармские власти ожидали нового бунта и покушений на военного губернатора Приморской области В. Е. Флуга и коменданта Владивостокской крепости В. А. Ирмана, ничего подобного не случилось. В дальнейшем революционная обстановка пошла на спад, а период с 1908 по 1909 г. В. Е. Флуг в своих мемуарах называл порой долгожданного умиротворения (ГАРФ. Ф. Р-6683. Оп. 1. Д. 20. Л. 35). После подполковника Заварицкого должности начальника Владивостокского охранного отделения и Владивостокской крепостной жандармской команды принципиально занимали разные люди, что позволяет говорить о качественно ином этапе в истории жандармских органов на Дальнем Востоке России.
В 1905‒1907 гг. основным направлением своей работы, которое мешало политическому сыску, сам ротмистр Петров называл борьбу со шпионажем (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 11521. Л. 49). Здесь крепостная жандармерия оказалась в ловушке шпиономании, спровоцированной Русско-японской войной. Начальник Владивостокского отделения ЖПУ, которое было подчинено крепостной жандармерии весной 1905 г., ротмистр Михайлов отмечал, что осведомленность японцев о происходящем во Владивостоке чрезмерно высока [Из истории Русско-японской войны…, 2005, с. 435]. Среди подозреваемых в шпионаже в пользу Японии он указывал не только представителей японской диаспоры, но и ряд других лиц ‒ американского и британского коммерческого агентов, американку Жаннету Чарльз ‒ содержательницу крупного борделя. По мнению Михайлова, эти люди через общение с рядом офицеров крепостного гарнизона (среди которых были начальник инженеров крепости Вацлав Жигалковский и его помощник полковник Ющенков) были в полной мере осведомлены обо всех владивостокских секретах и сообщали их японцам как во время войны, так и после заключения мира [Там же, с. 436-437].
Масштабы японского шпионажа казались властям столь огромными, что он просто воспринимался как что-то неизбежное; в своих отчетах штаба Приамурского военного округа писалось, что буквально на каждом стрельбище, при любых маневрах присутствуют японские агенты [ Греков , 2000, с. 30]. При этом стоит заметить, что масштабы его были явно преувеличены. Пока военные и жандармские власти буквально везде видели японских шпионов на Дальнем Востоке, их реальные возможности были сильно ограничены. До 1907 г. на Дальнем Востоке России действовал единственный японский разведывательный центр, находившийся во Владивостоке под прикрытием коммерческого агента (де-факто - консула) [Там же, с. 29]. При этом из-за отъезда коммерческого агента и деятельности жандармов он был в 1904 г. ликвидирован, а первые постоянные резиденты появились в городе лишь весной 1906 г. С мая 1906 по декабрь 1907 г. сменилось три японских резидента [ Зорихин , 2023, с. 94]. Впрочем, это не мешало активным действиям местных властей. В 1906‒1907 гг. только во Владивостоке было арестовано за шпионаж 243 японца [ Кондратов, Ципкин , 2017, с. 173]. Практически все они были в административном порядке высланы за пределы владивостокского крепостного района, так как у военных и жандармских властей не нашлось достаточных доказательств для их привлечения к суду за шпионаж. Эта зыбкость обоснованности вины арестованных заставляет подозревать, что, несмотря на всю активную деятельность жандармерии, большая часть задержанных ими иностранцев была невиновна. На это также косвенно указывает то, что, по оценкам ряда исследователей, общее количество всех японских агентов в Российской империи перед войной с Японией вряд ли превышало 500 человек, не сильно изменившись и после нее [ Греков , 2000, с. 26].
В то же время определенные успехи в контршпионской деятельности все же были. Владивосток оценивался как весьма непростое и сложное место с серьезным контрразведывательным режимом, за который в 1904‒1907 гг. отвечали именно сотрудники Владивостокской крепостной жандармской команды [Зорихин, 2023, с. 94‒95]. При этом руководители и деятели жандармерии видели прямую взаимосвязь между шпионажем и политическим сыском. На факт того, что революционная агитация в войсках способствует распространению шпионажа, в июле 1906 г. указывал жандармский ротмистр Михайлов [Из истории Русско-японской воины..., 2005, с. 440-441]. Так что можно сказать, что из-за Русско-японской войны и Первой русской революции революционная деятельность в войсках и шпионаж сплелись для крепостной жан- дармерии в единое целое, с которым приходилось бороться, исходя из тех приоритетов, что ставило вышестоящее начальство в лице штаба Владивостокской крепости. Именно ему Владивостокская крепостная жандармская команда целиком и полностью подчинялась как во время войны, так и во время военного положения революционных лет. Впоследствии система органов безопасности подверглась реформам. Во Владивостоке возникло Охранное отделение, специализирующееся сугубо на политическом сыске. В 1911 г. было создано Контрразведывательное отделение штаба Приамурского военного округа, один из контрразведывательных пунктов которого был учрежден в штабе Владивостокской крепости. Это позволило значительно снизить загруженность Владивостокской крепостной жандармской команды, несмотря на то что и контрразведкой, и политическим сыском крепостные жандармы продолжали заниматься до своего упразднения в 1917 г.
Говоря об итогах деятельности Владивостокской крепостной жандармской команды в качестве органа политического сыска, стоит отметить определенную двойственность. В условиях хронического недофинансирования, нехватки компетентных офицеров и агентов наружного наблюдения владивостокским крепостным жандармам все же удалось построить систему политического сыска в регионе. Еще в 1906 г. у них получилось установить источники революционной пропаганды в войсках крепостного гарнизона и среди гражданских жителей Владивостока, выявить каналы поставок антиправительственной революции и провести серию арестов. Была создана полноценная агентура в Японии для наблюдения за находившимися там революционными эмигрантами. Удалось даже выявить военно-революционный заговор о подготовке восстания в октябре 1907 г. Однако действия жандармов не предотвратили, а форсировали эти события. В итоге бунт был подавлен войсками, а не предотвращен силами жандармов. Наладить агентурно-сыскную работу у начальника крепостной жандармской команды получилось, но проводить ее всегда успешно ‒ отнюдь нет.
При явных успехах Владивостокской крепостной жандармской команде в ее деятельности сопутствовали и неудачи, что видно по вышеприведенным примерам. При этом нельзя сказать, чтобы методы ее работы отличались от общепринятых. «Положение об охранных отделениях» утверждало, что для офицеров сыска «мерилом успешности их деятельности будет всегда не количество произведенных ликвидаций, а число предупрежденных преступлений и процентное отношение обысканных лиц к количеству тех из них, которые подвергнутся судебной каре» [Политическая полиция Российской империи между реформами…, 2021, с. 88]. Другим критерием успешности деятельности политического сыска «Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения» называла создание сыском ситуации, при которой «революционеры вынуждены будут прекратить в данной местности свою преступную работу» [Там же, с. 98]. Крепостные жандармы действовали в области сыска на основе этих документов и действительно стремились ограничиваться агентурным наблюдением и обысками, т.е. созданием искусственного давления на революционное подполье. Такой подход полностью соответствовал уставным документам Департамента полиции и общеимперской практике политического сыска. То, что эти методы не всегда были эффективны, вызвано не их ущербностью, а тем контекстом, в котором оказались владивостокские крепостные жандармы в условиях Русско-японской войны и Первой русской революции.
Новых людей, полномочия и обязанности Владивостокская крепостная жандармская команда получала по мере возникновения новых вызовов и угроз общегосударственного характера, которые проявляли себя в регионе. Вся ее деятельность за пределами военно-полицейской и контрразведывательной службы носила реактивный характер ответа на внешние и внутренние вызовы. Как только стало ясно, что силами одной малочисленной жандармской команды не справиться с проблемой революционного движения, во Владивостоке было создано охранное отделение. Ему отошли функции крепостной жандармерии по политическому сыску, но до начала 1908 г. никакого фактического разделения между крепостной жандармской командой и охранным отделением из-за общего начальства и общей агентуры не было.
Лишь подавление революционного движения в стране и стабилизация внутренней обстановки позволили уйти от чревычайщины в пользу поиска институциональных решений в во- просах политического сыска. С начала 1908 г. Владивостокское охранное отделение и Владивостокская крепостная жандармская команда уже действовали как отдельные жандармско-полицейские органы.
В 1905‒1907 гг. Владивостокская крепостная жандармская команда выполняла несвойственные ей функции в условиях острой нехватки у государства подготовленных кадров для обеспечения политической безопасности в дальневосточном регионе. Если проигнорировать весь контекст Русско-японской войны и Первой русской революции во Владивостоке, то история военно-жандармских органов Владивостокской крепости (и подобных ей учреждений во всей России) выглядит как цепь хаотичных и не связанных друг с другом событий, непоследовательность которых демонстрирует некомпетентность местного и имперского руководства. С учетом же этого контекста становится понятно, что меры реагирования властей Российской империи на всех уровнях были адекватны в первую очередь тем ресурсам, которыми они располагали. Характер преобразований, происходивших с Владивостокской крепостной жандармской командой, показывает, что в середине 1900-х гг. военные и полицейские власти реагировали прежде всего на уже существующие угрозы, нежели предотвращали их. Пожалуй, это можно выделить в качестве слабости имперского администрирования тех лет. Способность реагировать на возникающие угрозы и зачастую успешно их устранять нивелировалась невозможностью предотвратить их, ликвидировав причины возникновения. Четыре года из истории Владивостокской крепостной жандармерии, когда она совмещала в себе функции военно-полицейской, контрразведывательной, политической, розыскной службы, наглядно подтверждают это положение.
Список литературы Владивостокская крепостная жандармская команда в 1904-1907 годах: от войны с Японией до первой русской революции
- Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-44. Оп. 1. Д. 65. Л. 4, 6, 8.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 110. Оп. 2. Д. 10416. Л. 1-4, 11, 13, 54; Д. 10588. Л. 1, 23, 24; Д. 11521. Л. 32, 41, 49, 50; Оп. 3. Д. 2749. Л. 4, 5, 15, 16, 28, 31; Д. 2872. Л. 6, 7, 10, 11, 16; Оп. 22. Д. 413. Л. 1; Ф. Р-5800. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об., 3, 4; Ф. Р-6683. Оп. 1. Д. 19. Л. 96, 97, 126, 127, 134, 259; Д. 20. Л. 35.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 13149. Оп. 1. Д. 88. Л. 18 об.
- Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 10, 42, 46, 47, 53, 64, 65.
- Авилов Р. С, Аюшин Н.Б., Калинин В.И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Ч. I. «Назло надменному соседу». 1860-1905 гг. Владивосток: Дальнаука, 2013. 384 с.
- Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905-1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. М.: МОНФ, 2000. 355 с.
- Зорихин А.Г. Военная разведка Японии против России. Противостояние спецслужб на Дальнем Востоке. 1874-1922 гг. М.: Центрполиграф, 2023. 349 с.
- Из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг.: сб. материалов к 100-летию со дня окончания войны / авт.-сост. Е.М. Османов. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 470 с.
- Качкин А.Н. Формирование Владивостокской крепостной жандармской команды // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 1 (21). С. 61-65.
- Кондратов Е.Б., Ципкин Ю.Н. Русская контрразведка на Дальнем Востоке в конце XIX в. -1917 г. Хабаровск: Хабаров. краев. музей им. Гродекова, 2017. 255 с.
- Обзор революционного движения в округе Иркутской судебной палаты за 1897-1907 гг. СПб., 1908. 212 с.
- Политическая полиция Российской империи между реформами. От В.К. Плеве до В.Ф. Джунковского: сб. документов / вступ. ст., сост., коммент. Е.И. Щербакова. М.: АИРО-ХХ1; СПб.: Алетейя, 2021. 352 с.
- Румянцев П.П. Жандармский округ в Сибири: система организации и трансформация // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2020. № 67. С. 39-46.
- Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов, исправлен по 1 октября 1909 г. 1 и 2 части. СПб., 1909. 725 с.