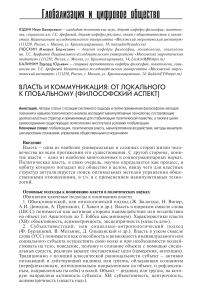Власть и коммуникация: от локального к глобальному (философский аспект)
Автор: Юдин Иван Валерьевич, Люскин Михаил Борисович, Калинин Эдуард Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Авторы статьи с позиций системного подхода и путем применения философских методов познания и навыков политического анализа исследуют манипулятивные технологии, составляющие арсенал властных структур и применяемые для стабилизации политической повестки, а также в целях самосохранения существующих политических институтов в условиях глобализации.
Глобализация, политическая власть, манипулятивное воздействие, методы манипуляции массовым сознанием, управление общественными отношениями
Короткий адрес: https://sciup.org/170177354
IDR: 170177354 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8373
Текст научной статьи Власть и коммуникация: от локального к глобальному (философский аспект)
Власть – одна из наиболее универсальных и сложных сторон жизни человечества на всем протяжении его существования. С другой стороны, понятие власти – одно из наиболее многозначных в социогуманитарных науках. Политическая власть, в свою очередь, научно определяется как процесс, в орбиту которого попадает все общество в целом, ввиду чего для властных структур актуализируется поиск оптимальных методов управления общественными отношениями, в т.ч. и с применением манипулятивных технологий.
Основные подходы к пониманию власти в политических науках
Обозначим ключевые подходы к пониманию власти.
-
1. Объективистский, или онтологический подход (Ж. Баландье, Н. Винер, А.И. Демидов, А. Пригожин, Г. Хакен и др.). Власть в широком смысле слова (ШСС) понимается как активная сторона взаимодействия или воздействия на объект (от Аристотеля до Т. Гоббса как минимум). Характеристики власти (ХВ): объективность, асимметричность, эксцентричность («власть для»).
-
2. Субъективистский, или социально-антропологический подход (Ф. Бурлацкий, В. Мельник, Д. Ольшанский и др.). Власть в узком смысле слова (УСС) понимается как способность и возможность индивидуального или социального субъекта осуществить свою волю и при необходимости воздействовать на тело, поведение, психику и сознание объекта с помощью специальных средств, реализуя заранее поставленные цели (намерения, интенции). Традиционно с позиций классической рациональности субъект – активно познающий и действующий индивид или группа, обладающая сознанием (нерефлексивным, интенционально направленным на объект, и рефлексивным, направленным на себя) и волей. Объект – индивид или группа, на которую направлена активность субъекта. ХВ: субъективность, центричность, асимметричность («власть над»).
-
3. Амбивалентный поход (Л. Эштон, Ж. Делез, Б. Соколов, М. Карецкая и др.). Власть понимается амбивалентно (двойственно), т.е. принципиально содержащая как объективные, так и субъективные аспекты: объективно – как управляющая или регулирующая и формирующая порядок или, другими словами, как антиэнтропийный фактор; субъективно – как осуществляющая доминирование одних субъектов над другими. ХВ: объективность/субъектив-ность, центричность, асимметричность.
-
4. Коммуникативно-информационный – сетевой – подход (Н. Луман, Б. Латур, М. Кастельс и др.). Власть трактуется как эпифеномен сети или коммуникационно-информационных отношений. ХВ: объективность/предмет-ность/субъективность (интерсубъективность), эксцентричность, симметрич-ность/асимметричность.
-
5. Системно-полевой подход (П. Бурдье, М. Фуко, Н. Шматко, Ю. Качанов и др.). Политика понимается как пространственно распределенное поле взаимодействий. Исходя из этого подхода можно трактовать власть также как поле, вводя разницу между рефлексивным полем политики и нерефлексивным потенциальным полем власти. ХВ: объективность/субъективность, эксцентричность, симметричность.
-
6. Концепция взаимо- или созависимости, или взаимной власти (используем неологизм совластности – И. Шаповал, Э. Аллен и др.). Эта концепция не сводится к пяти описанным выше. На современном этапе этот тип власти реализуется в различного рода союзах (коллаборациях) или сотрудничестве. Есть основание полагать, что этот тип власти был доминирующим на ранних стадиях антропосоциогенеза, которые характеризуются в рамках социальной психологии парой «мы» и «они».
Антропосоциогенез и становление иерархичности детерминации человеческого существования и уровней власти
При антропосоциогенезе происходит формирование человека и общества как последовательное усложнение уровней детерминации их существования. В случае понимания власти в ШСС можно рассматривать иерархию природных и социальных детерминант, воздействующих на человека или группу и ограничивающих или определяющих их поведение или сознание как иерархию уровней власти. Эволюция и иерархия уровней детерминации человеческого бытия (рефлекс и доминанта, стереотип и ритуал, установка и аттитюд, рефлексия и интенция) – то, что определяет взаимообусловленность различных норм, сложную подчиненность норм и взаимообусловленность их в определенные временные периоды. Кроме того, в этом контексте можно говорить и об ограниченности их естественного базиса и релятивности. Именно на этих принципах исторически базируется политическая власть, т.к. ее качество в практическом аспекте во многом определяется нестабильностью, прежде всего, геополитической ситуации.
В рамках нейрофизиологии доминанта – основной закон нервной деятельности, согласно которому доминирующее возбуждение (иррадиация) подчиняет себе (т.е. тормозит) все остальные. Она образует первый уровень собственной основы власти. Установка является психологической модификацией принципа доминанты и выступает целостным динамическим состоянием готовности к определенной активности субъекта. Установка – второй уровень собственной основы власти.
Следующий уровень детерминации (третий уровень собственной основы власти) возникает при появлении феномена сознания, преобразующего всю психику и превращающего ее в психику человека. При этом бессознательное психическое мыслится как уже или еще (в крайнем случае, потенциально) осознаваемое.
Для реализации концепции установки применительно к социальной психологии и психологии личности необходимо использовать понятия диспозиции (расположения) и преддиспозиции (предрасположенности). Тогда все основные уровни внутренней и предварительной преддетерминации поведения и деятельности человека можно рассматривать как взаимосвязанную иерархию преддиспозиций (в т.ч. иерархию преддиспозиций уровней власти). Здесь важно отметить важность социально-психологических трансформаций, позволяющих формировать установки и стереотипы. Социально-психологическая трансформация в данном контексте представляет собой перевод в психологический механизм, обусловленный природными свойствами, механизма социального, в определенной степени искусственного, что можно обозначить как вторичную натурализацию. Именно такой тип натурализации определяет возможность существования системы внутренних детерминаций поведения человека в обществе. Этот механизм можно обозначить как обобщенную интерио-ризацию (вслед за Л. Выгодским).
Условием возникновения социальных стереотипов (вторичных динамических психофизических стереотипов), вне зависимости от того, включен ли индивид в социальную группу или находится в общем информационном пространстве, является ритуализация – специфический механизм, отвечающий за символизацию окружающей социальной действительности. Так как социальная действительность – неприродная, для выработки стереотипа необходима ее трансформация в целях установления прочных и устойчивых смысловых связей на основе образно-психологических характеристик, формируемых символизацией. Результатом таких трансформаций является нормирование, которое осуществляется в двух подсистемах – духовной (психофизическая детерминация на нерефлексивном сознательном и бессознательном уровнях) и собственно социальной. Причем такие механизмы действуют как в архаических, так и в модернизированных и постмодернистских сообществах. Если рассматривать норму культуры в широком смысле, можно отметить ее способность навязывать индивидам определенную модель поведения и/или деятельности. Такая модель в достаточной степени стереотипизирована, она предписывается социуму и обладает способностью воспроизводиться в способах организации, направленности, формах осуществления и результатах интериорной (духовной, психической) и экстериорной (поведенческой) активности отдельных индивидов, что определяет такое качество нормы культуры, как императивность.
Основная функция стереотипного поведения – адаптивная. Аналогичная адаптивная функция присуща и ритуальному поведению с разницей лишь в доминировании во всем функциональном комплексе. Так, трансформируясь в ритуал, стереотип становится элементом социальной структуры, обретая независимость от воли и сознания индивида, играет роль регулятора поведения. В свою очередь, возникая стихийно или намеренно, ритуалы в контексте концепции естественного отбора становятся в определенной степени бессмысленными, т.к. не детерминируются естественными, природными условиями существования индивида и тем самым теряют свое качество адаптивности, обретая свою смысловую сущность в социальном контексте, ориентируясь прежде всего на поддержание социального единства и на устойчивость его воспроизводства. Таким образом, адаптивная функция ритуала выступает подчиненной по отношению к регулятивной. Конечная цель ритуального поведения – в обеспечении социального единства (одновременно это основная реализация собственного уровня социальной власти) [Клягин 1996: 47].
В период позднего палеолита и неолита происходит формирование мифо-символо-ритуального комплекса социальной регуляции, основным содержанием которого выступает акт творения порядка из хаоса как формирование социального порядка, и сакрализация власти с помощью фетишизации верховных фигур власти (вождей и жрецов) и связанных с ними иерархических социальных отношений. Эти механизмы сакрализации власти, трансформируясь, дошли до наших дней в форме так называемого авторитета, чья значимость и, соответственно, власть принимается на веру и реализуется в самых различных сферах современного общества (вплоть до научных сообществ). В результате процесса антропосоциогенеза у социокультурных систем (индивид или группа) можно выделить как минимум пять уровней детерминации их существования. На каждом из них они вступают во взаимодействие.
-
1. В сфере объективно-природной – для удовлетворения потребностей в обладании теми или иными природными ресурсами. Это субъект-объектное взаимодействие не может быть рассмотрено как коммуникация, разве только в метафорическом смысле.
-
2. В сфере объективно-социальной – для реализации интересов по поводу: а) обладания результатами хозяйственной деятельности (или объектами искусственной среды); б) места и реализации функций в социальном порядке (т.е. обладания властью в УСС). Это взаимодействие может быть рассмотрено как коммуникация посредством материальных и социальных предметов (общественные отношения в широком смысле в марксистской традиции).
Далее целесообразно обратить внимание на неоднозначность понимания коммуникации и в современной науке. Понимая коммуникацию как в широком смысле, так и в узком, мы так или иначе связываем данное понятие с понятием «общение». При этом в узком смысле можно понимать коммуникацию как непосредственное общение, взаимодействие двух или более индивидов, а в широком смысле – как опосредованное общение в контексте или общественных отношений (характерно для сферы политики в контексте глобализации политического пространства), или коммуникативного обмена. В первом случае платформой для возникновения коммуникаций становятся средства труда и материальные ценности, а во втором в центре коммуникативного обмена – духовные предметы, средства и субъекты взаимодействий.
В целом же следует понимать общение как процесс, направленный на достижение сплоченности, своеобразной общности, а коммуникацию – как процесс обмена информацией, что при этом не исключает ее принципиального свойства – коммуникация присуща человеку, а потому заключает такие неотъемлемые элементы сознания, как разум или дух.
Детерминизм, управление и манипуляция в условиях глобализацииполитического пространства
Установки, стереотипы и ритуалы – своеобразные инструменты, благодаря которым субъекты власти могут за счет манипуляции управлять общественными отношениями.
В основе алгоритмов, закладываемых в глобальные политические процессы управления массовым сознанием, лежат довольно четкие причинно-следственные связи, основанные на принципиально новом типе детерминации, характерном для глобализирующихся социальных систем, однако базирующемся все так же, прежде всего, на смыслах и ценностях. При этом ценности отражают символическую действительность, являясь детерминантами поведения индивидов и различных социальных групп в обществе и их жизнедеятель- ности. Смыслы – это элементарные единицы языков и коммуникаций, которые относятся как к индивидуальному, так и к социальному управлению и, как следствие, непосредственно к власти.
Процесс управления в совокупности всех социальных процессов отличает его целесообразность, что определяется как содержательной, так и формальной стороной процесса коммуникационного обмена в управлении. При этом данное понятие представляется весьма условным, т.к. цель может быть косвенной, однако социально значимой и обеспечивающей устойчивость социальных систем, их гармоничность. Также цель может быть скрытой, навязываться извне – в этом случае речь может идти о таком процессе, как манипуляция.
Манипуляцией активно пользуются субъекты политической власти, подкрепляя манипулятивное воздействие возможностями современных средств массовой коммуникации, которые в условиях глобализации способны транслировать информацию в существенных масштабах и на любые расстояния практически мгновенно. С учетом критерия целесообразности власти можно выделить наряду с прямой властью и власть косвенную (по К. Шмитту – potestas directa и potestas indirecta ). Властные отношения сопряжены с самой динамикой жизни, которая не может быть зафиксирована и воплотиться только в прямой власти, а на ранних стадиях антропосоциогенеза в отсутствие или в период становления персональной воли нужно говорить не только об отсутствии прямой персональной власти, но о наличии коллективной косвенной власти, где сам коллектив является как источником, так и исполнителем такого рода власти [Дугин 2017: 106]. Однако вне зависимости от типа власти манипулятивный характер властного воздействия одинаково свойственен субъектам власти и прямой, и косвенной.
Манипуляция отличается от прямого коммуникативного воздействия прежде всего своей методикой. Основными способами коммуникативного воздействия являются:
-
1) убеждение – аргументация, риторика и языковая экспрессия;
-
2) принуждение:
– прямое: а) насилие (агрессия) или угроза насилием, б) приказание;
– косвенное: а) духовная «агрессия» (экспрессивное поведение), б) манипуляция.
Основные способы манипуляции на межличностном, групповом и массовом уровнях: 1) внушение (суггестия), 2) подражание, 3) заражение, 4) непрямое действие авторитета.
Сделаем попытку классификации основных сфер манипулятивного воздействия. Здесь можно выделить манипуляцию 1) потребностями и интересами, 2) целями, 3) идеалами и ценностями, 4) чувствами и эмоциями, 5) символами, 6) знаниями (значениями и смыслами знаков).
В случае п. 6. основное направление борьбы в манипуляции – рефлексивное сознание объекта. Наиболее распространенные приемы манипуляции при этом: 1) дробление (диссеминация), 2) ускорение и непрерывная передача информации для уничтожения временного интервала работы рефлексии, 3) монтаж в реальном времени с высокой частотой (клиповый подход), 4) микст (смешение правды с ложью), 5) неполнота, 6) усложнение [Дридзе 1984: 140; Шишкина 2002].
Типы манипулятивных коммуникаций, используемых субъектами политической власти в условиях глобализации информационного пространства
Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод о существовании манипулятивной (дискурсивной и недискурсивной) коммуникации, к которой можно отнести массовую информацию, рекламу, деловое общение, PR и пропаганду. Все обозначенные типы субъекты политического пространства в разной степени используют в своей деятельности в зависимости от целей коммуникации (к примеру, политическая реклама в период избирательных кампаний или реклама территорий в процессе конструирования территориального бренда, PR и пропаганда в повседневной деятельности субъектов политического пространства, деловое общение в протокольных мероприятиях высших государственных должностных лиц, СМИ в GR- или в G2C-коммуникациях). Для различных инструментов в зависимости от ситуации, целей и целевых аудиторий характерны различные манипулятивные алгоритмы.
Текст и интенция. Содержательно-смысловые структуры, передаваемые (и воспринимаемые) при общении, своей первопричиной имеют мотивы и цели общения и взаимодействия людей с окружающим их миром, «выступают как “интенция”, влияющая на форму и на конкретное семиотическое (знаковое) воплощение содержательной части общения» [Веселкин 1977: 46]. Понятие «интенция» означает намерение, цель, направленность сознания на предмет. Интенциональное сознание – это бытийный нерефлексивный уровень сознания [Плюснин 1990].
Именно интенция организует и выстраивает всю семиотическую систему (текст, передача, имидж и т.д.). Коммуникатор может доносить интенцию (в случае равноправной и симметричной коммуникации) и директивно навязывать или манипулятивно конструировать ее во властных целях [Веселкин 1997; Клягин 1996].
Коммуникация состоится, если можно говорить о наличии взаимодействия, взаимопонимания и восприятия. И это отличает ее от квазикоммуникации, или псевдокоммуникации, где получатель и отправитель информации воспринимают коммуникационный акт с принципиально разных позиций. Такой асимметричный тип коммуникации часто можно наблюдать в политических процессах различного уровня. Ситуация, которую Ж. Бодрийяр определяет как «не-коммуникацию», свойственна современному информационному пространству, когда посредники в процессе передачи информации от субъектов власти массовой аудитории намеренно закладывают в нее свои смыслы, часто в зависимости от политических амбиций владельцев, что и определяет сущность манипуляций СМИ общественным мнением через тексты. Исключением не являются и социальные сети. Сфера PR также часто использует посредничество в качестве инструмента передачи информации. По аналогии с Маклюэном можно сформулировать тезис, что общественные отношения (связи) – это отношения (связи) с общественностью через коммуникационного посредника [Дридзе 1984].
Символическое конструирование имиджа как машины власти. Имидж целесообразно рассматривать как проецирование объекта под углом определенных интересов того или иного вида власти. То, что называется имиджем (образом – в буквальном смысле), является не просто символическим представлением о каком-то одушевленном или неодушевленном объекте, но целым ритуально-мифо-символическим комплексом, в котором телесно-образные компоненты используются для формирования необходимой системы ценностей и смыслов для адресанта коммуникации [Ледяев, Ледяева 2016]. Именно за счет имиджа тот или иной объект политической действительности – политический лидер, политическая партия и др. – обретает символическую рациональность, которая является своеобразным модулем для трансформации реального образа объекта в современном мире, как правило, в социальные сети и прочую вир- туальную реальность, через которую с помощью различных манипулятивных технологий этот образ внедряется в массовое сознание.
Массовая коммуникация в ее традиционном смысле сейчас также включает в качестве ее основания интернет-коммуникации – как в продукте, так и в его доставке. В определенном смысле значительная часть этой формы массовой самокоммуникации ближе к «электронному аутизму», чем к настоящей коммуникации. При этом мультимедийные сети как структуры коммуникации сами по себе не обладают властью сети, сетевой властью. Они зависят от решений и инструкций их программистов. Власть сети состоит в возможности позволить медиуму или сообщению войти в сеть через процедуры контроля доступа. Но где во всем этом власть? Владельцы глобальных мультимедийных корпоративных сетей принадлежат к числу власть имущих в сетевом обществе, потому что они программируют решающую сеть: метасеть коммуникационных сетей – сетей, которые обрабатывают мыслительные «материалы», благодаря которым мы подчиняемся, думаем, чувствуем, живем. Это значит, что с добавлением сетей и сетевой власти в обществе суть власти не меняется.
Следующий этап глобализации власти информационно-коммуникативных сетей наступает тогда, когда агентами могут быть носители искусственного интеллекта (ИИ). Мультиагентная (или многоагентная) система состоит из множества взаимодействующих интеллектуальных автономных агентов и пассивной среды, в которой агенты существуют и на которую могут влиять. (Под агентом в общем случае понимается либо человеческий, либо искусственный интеллект.)
Агентам присущи такие свойства, как автономность, коммуникативность (взаимодействуют с другими агентами), целенаправленность и активность (наличие цели и способность выполнять определенные действия для ее достижения), ограниченность представления (ни у одного из агентов нет представления обо всей системе в целом, как нет и агента, управляющего действиями других агентов, т.е. мультиагентные системы – эксцентричные системы, которым присуща самоорганизация, которые реализуют новую форму информационно-коммуникативной власти (назовем ее «пятой властью») [Дугин 2017: 106].
Изучение процесса универсализации PR и соцсетей показало, что наступает качественно новый этап развития постиндустриального, постмодернового общества, на котором все возрастающая унификация многообразия и сохранение формальной свободы выбора сочетается с эффективным идеологическим механизмом реального управления последней. Эти механизмы, сферы и результаты управления свободным выбором и являются PRO- спективой глобальной пиаризации и сетевизации общественного развития, которая с нарастанием процессов глобализации сама становится глобальной. Однако формирование глобальной PRO и соцсети автоматически не превращает ее ни в ноосферу (по В. Вернадскому), ни даже в инфосферу (по Д. Рашкоффу), т.к., став глобальной, она не становится автономной, напротив, она делается все более и более управляемой, т.е. выступает как новая система власти [Кастельс 2016; Лихтенштейн и др. 2018].
Заключение
В эпоху глобализации меняется система функционирования властных взаимодействий, однако, как и прежде, власть базируется на различных формах общения, которые в эпоху Модерна получили название «коммуникационные процессы». Эти процессы в современном мире мгновенно преодолевают барьеры государств и общностей, тем самым расширяя границы властного воз- действия, однако вместе с тем и порождая общности людей нового типа различного уровня. Однако в процессе современной коммуникации спонтанность общения в традиционном обществе, направляемая нерефлексивной активностью жрецов, в системе «ритуал – символ – миф» заменяется рефлексивной конструктивной деятельностью идеологов – коммуникаторов, а общение все больше вытесняется коммуникацией. При этом в рамках PR-систем и развития социальных сетей в эпоху глобализации и постмодерна с коммуникацией возрастает уровень информатизации и формализации, управляемости и констру-ируемости, с одной стороны, власть и влияние – с другой.
Вместе с тем следует также обозначить онтологические пределы абсолютистских властных претензий рефлексивного конструктивизма, в т.ч. и концепции всевластия социальных сетей и PR -структур как конструкторов и прокураторов общения и новой, «пятой» власти. Эти пределы имеют как природные, так и сверхприродные основания, связанные со спецификой человеческого бытия, сознания и духа.
Список литературы Власть и коммуникация: от локального к глобальному (философский аспект)
- Веселкин Е.А. 1977. Кризис британской социальной антропологии. М.: Наука. 171 с
- Дридзе Т.М. 1984. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука. 268 с
- Дугин Е.Я. 2017. Власть идеологии и идеология власти. - Власть. Т. 25. № 3. С. 106-113
- Кастельс М. 2016. Власть коммуникации: учебное пособие. М.: ИД ВШЭ. 564 с
- Клягин Н.В. 1996. Происхождение цивилизации (социально-философский аспект). М.: Изд-во ИФ РАН. 252 с
- Ледяев В.Г., Ледяева О.М. 2016. Концептуальный анализ власти и "лингвистические аргументы". - Морфология политических институтов. № 2. С. 26-39
- Лихтенштейн В.Е. и др. 2018. Мультиагентные системы: самоорганизация и развитие. М.: Финансы и статистика. 262 с
- Плюснин Ю.М. 1990. Проблемы биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. Новосибирск: Наука. 239 с
- Шишкина М.А. 2002. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб: Паллада-медиа; СЗРЦ "Русич". 444 с