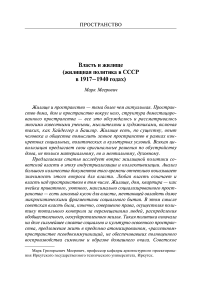Власть и жилище (жилищная политика в СССР в 1917-1940 годах)
Автор: Меерович Марк Григорьевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Пространство
Статья в выпуске: 1, 2003 года.
Бесплатный доступ
Жилище и пространство - тема более чем актуальная. Пространство дома, дом и пространство вокруг него, структура доместициро-ванного пространства - все это обсуждалось и рассматривалось многими известными учеными, мыслителями и художниками, включая таких, как Хайдеггер и Башляр. Жилище есть, по существу, опыт человека и общества помыслить земное пространство в рамках конкретных социальных, политических и культурных условий. Всякая цивилизация предлагает свои оригинальные решения по обустройству дома, не только материальному, но и ментальному, духовному. Предлагаемая статья исследует вопрос жилищной политики советской власти в эпоху индустриализации и коллективизации. Анализ большого количества документов того времени отчетливо показывает значимость этого вопроса для власти. Любая власть означает и власть над пространством в том числе. Жилище, дом, квартира - как ячейка приватного, уютного, максимально социализированного пространства - есть лакомый кусок для власти, мечтающей овладеть даже микроскопическими фрагментами социального бытия. В этом смысле советская власть была, конечно, совершенно права, осуществляя политику тотального контроля за перемещениями людей, распределения обобществленного, огосударствленного жилья. Такая политика означала на деле сильнейшее сжатие социально и культурно освоенного пространства, предложение жить в предельно атомизированном, «рассеянном» пространстве псевдокоммуникаций, не обеспечивавших полноценного воспроизводства символов и образов домашнего очага. Советское пространство с образно-географической точки зрения было во многом пространством без Genius loci. Геоонтология жилища предполагает наличие укрытия или укрытий, в которых происходит восстановление, реновация и наращивание социальных функций Homo domesticus, направленных вовне, на изменение социальной и культурной среды. Дом - это образ пространственного переворота, постоянной смены знаков и символов опространствления конкретных точек приложения социальных сил и источников социальной энергии. Обстоятельная работа Марка Мееровича наглядно свидетельствует о редукции, намеренном свертывании этих процессов советской властью. В результате власть оказалась один на один с «голым» пространством, пространством без его собственных образов, пространством настолько коммунализированным, что понятие жилища и дома растворилось в схематике борьбы классов и полного обобществления труда. Труд без труда над собственным образом Дома стал бессмысленной акцией, манифестацией космогонического характера. Но небо утеряно, когда земля не собрана. Дмитрий Замятин
Короткий адрес: https://sciup.org/14911830
IDR: 14911830
Текст научной статьи Власть и жилище (жилищная политика в СССР в 1917-1940 годах)
и обеспечивался жилищем, которое в этом случае в первую очередь являлось важной составляющей «планового государственного распределения».
Использовалось жилище и для того, чтобы навязать людям нужный власти образ социального поведения и действия. Эта функция реализовывалась двояким образом. Власть наказывала лишением жилища. Выселенные на улицу «без предоставления жилья» и не имеющие возможности получить его в ведомственных домах от администрации советских предприятий и учреждений вынуждены были самовольно вселяться в любое мало-мальски приспособленное для обитания помещение, за что постоянно преследовались и откуда безжалостно изгонялись властью. Но власть и вознаграждала жилищем. Поощрение в виде дополнительных метров жилплощади в условиях ее острейшего дефицита было одним из наиболее желанных доказательств заслуг перед властью. Рабочие, служащие, интеллигенция, ветераны войны и труда, ученые, чины партаппарата и советской администрации стимулировались к верному служению возможностью иметь дополнительную комнату и даже отдельную квартиру.
Жилище в руках власти стало одним из главных средств «контроля-принуждения». Права владения, управления, распоряжения жилищем контролировались НКВД. Жилище, которое нельзя было купить, продать, взять в аренду, самостоятельно построить, своевольно обменять, ставило людей в сильнейшую зависимость от государства — фактически единственного владельца и распорядителя жилищем. Этому способствовали и климатические условия России: здесь под пальмой не перезимуешь.
При таком подходе к жилищу власть была просто обречена, с одной стороны, ущемлять, подчинять, уничтожать все формы собственности на жилище, кроме государственной, с другой, создавать законодательную базу, обеспечивающую приоритет государственной формы в различных ее видах: государственно-ведомственной, государственно-коммунальной, государственно-кооперативной и др. Что она и делала. Считалось, что полная замена государственным жилищным сектором частного — лишь вопрос времени. Необходимость вытеснения и уничтожения частного владельца была для власти очевидной, так как в индивидуальном жилище она видела препятствие своему организационно-управленческому воздействию на трудовые массы (а нетрудящихся, в соответствии с основополагающей доктриной, не должно было быть вообще). Лишь постоянная неспособность власти справиться с жилищным кризисом, отладить процессы хозяйственного ведения отобранным у частных владельцев (муниципализированным) жилищем, развернуть массовое многоэтажное жилищное строительство оттягивали решение о полном запрещении частного владения жилищем. Власть вяло боролась с «нахаловками», ибо понимала, что, снося самовольно построенное убогое жилище, она в той или иной мере будет вынуждена брать на себя заботу о бездомных. Поэтому она мирилась с «нестратегическим» присутствием в городах индивидуальной застройки, но прятала частное жилище на окраинах и старательно сносила его в центральных частях городов, заполняя освободившееся пространство символами эпохи — сначала образцами сталинского классицизма, затем первенцами панельного домостроения.
Государственное владение и ведение жилищем
Идеальной формой жилища большевики считали «коммуну» — совместное жилье будущего, место, свободное от тягот домашнего труда, от семейных уз, от всего, что мешает «новому человеку» прочувствовать и понять преимущества подлинного коллективизма. Уже через две недели после взятия Зимнего Дворца в черновых набросках к декрету «О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте» В. И. Ленин писал: «Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» 1. Ленинское определение «богатой квартиры» имеет ключевое значение для понимания политических предпосылок отношения советской власти к жилищу. В этом определении, утвержденном Петроградским Советом 1 марта 1918 года и опубликованном на следующий день в «Известиях» 2, по существу заложено основание жилищной политики СССР не только непосредственно в послереволюционный период, но и на многие последующие годы.
Жилье изымается у богатых и заселяется «семьями бедного населения», а норма заселения экспроприированных квартир устанавливается в соответствии с ленинской формулой: « К = N +1», где К — количество комнат, а N +1 — количество жильцов, на одного человека превышающее количество комнат. Или, другими словами, К — это количество комнат, на одну меньшее количества жильцов. Не равное и не большее, а именно меньшее, чтобы квартира не оказывалась «богатой», а жильцы не превращались в «богачей».
Но при заселении возникает проблема с размером комнат в квартире. Комнаты в домах буржуазии достигают размеров 25, 30, 40, а подчас и более квадратных метров. Очевидно, что в каждую такую комнату вселять по одному человеку нерационально. Поэтому большие комнаты делятся на «нормальные»: весь существующий жилищный фонд «независимо от его качества, месторасположения и даже наличия перегородок делится на отрезки площади в соответствии с установленной нормой 20 кв. аршин (10 кв. метров) на взрослого и ребенка до двух лет и 10 кв. аршин (5 кв. метров) 3 на ребенка от двух до двенадцати лет» 4. В получившиеся комнаты заселяют, как правило, по одной семье. Так возникает феномен «коммунальной квартиры» 5.
В 1919 году норма заселения корректируется, так как усилиями Наркомздрава РСФСР устанавливается минимальная величина объема воздуха, необходимого человеку для нормального самочувствия после ночного сна: примерно 25–30 куб. м (при меньшем объеме человек усваивает за часть ночи весь кислород и, испытывая затем его недостаток, просыпается утром с головной болью). Из данной кубатуры и определяется минимальная площадь, необходимая одному человеку, — 8 кв. м или 16 кв. аршин. В дальнейшем она становится ориентировочной нормой для органов, ведающих распределением имеющегося жилища и занимающихся строительством нового.
Впрочем, не обходится без отклонений. Так, в первой половине 1920 года Научное Бюро Отдела градостроительства Петрогуб-совкомхоза объявляет конкурс на составление проекта планировки участка в 3-й зоне Петрограда с жилищем для пролетариев. В программе, в частности, указывается: «Объем воздуха в спальнях должен быть не менее 2 куб. саженей на человека для взрослых и 1 куб. саж. для детей. Ни одна из жилых комнат, в том числе и кухня, не должны содержать менее 2 куб. саж. воздуха» 6. Эта кубатура, при указанной в задании высоте жилых помещений не менее 4 аршин (2,84 м. — М. М. ), соответствует 6,83 кв. м. В 1920–1921 годах то же Бюро проводит в Петрограде конкурс на составление проектов планировки и застройки образцового поселка-выставки на территории Выборгского района. В программе конкурса также находим требование, что кубатура воздуха должна определяться из расчета 2 куб. сажени на взрослого и 1,5 куб. сажени на ребенка 7; получаются те же 6,83 кв. м на взрослого и 5,12 — на ребенка.
В Москве санитарная норма жилой площади устанавливается в 16 кв. аршин, то есть в 8 кв. метров 8. Она становится юридическим основанием для дальнейшего приумножения количества коммунальных квартир. Все, кто проживают на большей площади, обязаны потесниться и сдать излишек 9 для заселения нуждающихся либо самостоятельно вселить к себе на излишки любого человека, даже не родственника. Вселенный обретает право на площадь в данном жилище. На осуществление «права на самоуплотнение» 10 давались две недели, по их истечении вопрос о вселении на излишки площади решался не ее съемщиком, а домоуправлением 11.
Иначе говоря, люди понуждаются к тому, чтобы они сами воплощали в жизнь замысел власти покончить с «богатыми квартирами»: не ждите, пока сотрудник жилотдела выяснит, что появилась доступная к заселению площадь, самостоятельно заполняйте окружающее жилое пространство родственниками или знакомыми. Ну, а если площадь будет занята незаконно, то есть не в соответствии с существующими предписаниями власти, то ей опять же не придется беспокоиться: жильцы данной квартиры или дома, заинтересованные в обретении площади, донесут куда следует, призовут власть справедливо их рассудить и удовлетворить их притязания.
Несмотря на наличие официальной общероссийской нормы в 8 кв. м, реально, по данным Всесоюзной переписи населения, прошедшей 17 декабря 1926 года, в среднем на одного человека по стране приходилось 5,9 кв. м 12, в Москве — 5, 2 кв. м 13. В провинциальных городах этот показатель был выше (6,3 кв. м), а вот в фабричных центрах типа Иванова-Вознесенска, Богородска, Никола-Павлов-ска (Урал) и др. — значительно ниже (от 4,5 до всего 1,5 кв. м) 14. В 158 городах с населением свыше 20 тыс. жителей средняя площадь колебалась в пределах от 3,7 до 6 кв. м на одного человека 15.
Власть поддерживает также процесс появления коммун рабочей молодежи. В октябре 1920 года III съезд РКСМ предлагает «в целях рационального улучшения положения подростков-одиночек и вообще рабочей молодежи в жилищном отношении провести государственное декретирование домов-коммун для рабочей молодежи» 16. В августе вопрос об их организации рассматривается Центральной комиссией по улучшению быта рабочих и решается положительно. В конце декабря VIII Всероссийский Съезд Советов принимает решение о поощрении самодеятельности в деле реформы быта на коммунистических началах и, в частности, в организации домов-коммун 17. А немного позже, в сентябре 1921 года, IV съезд РКСМ счел необходимым отметить, что дома-коммуны способствуют социальному воспитанию рабочей молодежи, так как освобождают ее
«из-под разлагающего влияния улицы, мелкобуржуазных настроений семьи, тяжелых материальных условий... домашнего существования» 18.
Часть рабочей молодежи действительно тяготела к коммунальным формам проживания. Молодежные коммуны стали появляться буквально с первых дней советской власти. В 1923 году в них проживало уже более 40% молодых рабочих 19. В Москве на 1 марта того же года по данным МУНИ 20 было зарегистрировано 1075 домов-коммун 21. В них числилось более 100 тыс. человек 22, или 6,6% от почти полуторамиллионного населения города. В большинстве случаев молодые люди объединялись для преодоления материальных трудностей. Объединение отвечало традициям общинного крестьянского быта и поощрительной политике власти. «Членам бытовых коммун предполагалось предоставить ряд льгот и привилегий: преимущество при приеме на работу и поступлении в учебные заведения, освобождение от ряда налогов и др.» 23.
В отличие от молодежи, семейные рабочие переселяются в квартиры буржуазии и интеллигенции в центральной части города весьма неохотно. Известный ученый-статистик С. Г. Струмилин писал в мае 1919 года: «Рабочие не проявляют особой охоты к переселению уже потому, что им и без того не тесно, а слишком просторные квартиры при современной дороговизне дров представляют уже не удобство, а прямое бедствие... К этому нужно прибавить, что барские квартиры — в центре города, а заводы — на окраинах, и рабочему пришлось бы после переселения в центр тратить лишнее время и деньги на проезд к месту работы. Наконец, во что обойдется рабочему самое переселение, если извозчик за один конец берет 300 рублей. Ведь за эту сумму можно оплатить жилище рабочему за целый год. Вот почему даже бесплатная барская квартира для рабочего — не подарок, а слишком дорогое удовольствие, которое ему положительно не по карману» 24.
Главная причина заключалась, однако, в том, что коммунальная квартира отнюдь не являлась для рабочих вожделенным идеалом жилища. Около 60% рабочих предреволюционной России и так обитало почти в «коммунах» — рабочих казармах. «Личное имущество здесь носило весьма примитивный характер, стиль повседневной жизни также был лишен элементов приватности... В российской ментальности казарма никогда не ассоциировалась с домом в широком смысле этого слова. Она рассматривалась как аномалия, некий переходный тип жилища, пристанище наименее квалифицирован- ной и наименее обеспеченной части пролетариата. Люди, оказавшись здесь, стремились любыми способами обрести более индивидуализированное жилье» 25. Хотя сразу после революции самостийные коммуны помогли выжить наиболее неимущим рабочим, коммунальное жилище рассматривалась рабочими как временное и вынужденное.
Вселение в барские квартиры продолжалось, несмотря на нежелание рабочих перебираться в них. Оно стимулировалось материально: рабочим выдавались субсидии на переезд с окраин в центр, в январе 1921 года СНК РСФСР постановил отменить квартплату для рабо-чих26. Правда, в начале 1922 года, с началом новой экономической политики, в стране была введена всеобщая система оплаты жилья и коммунальных услуг 27. Но для рабочих и служащих госпредприятий и тут было сделано изъятие 28. Только в 1923 году оплата жилья становится всеобщей 29. Однако при этом устанавливается дифференцированная плата для разных категорий населения, и для рабочих и служащих госпредприятий она оказывается настолько низкой — ниже эксплуатационных затрат, что ее приходится поднимать и в 1924 году30, и в 1925 31, и в последующие годы. Когда же материальные стимулы не помогали, вселяли насильно. Декрет СНК РСФСР о мерах правильного распределения жилья среди трудящегося населения закреплял право госорганов переселять из одного помещения в другое по своему усмотрению, и они это право использовали.
Но при всей решительности в проведении жилищной политики новой власти не удается добиться быстрых результатов. Многие пролетарии по-прежнему предпочитают свои неказистые, не имеющие элементарных удобств, но более отвечающие сложившемуся образу жизни индивидуальные домики на окраинах города (с маленьким клочком земли, на котором можно было взращивать что-нибудь съестное) комнатам в коммунальных квартирах в многоэтажных домах в центре. Даже в Петрограде, где доля рабочих, живущих в центральных районах города, с 1919 по 1921 год более чем удвоилась (было 10% от общей численности рабочего населения, стало свыше 20) 32, в 1923 году «из числа молодых петроградских рабочих, которым, кстати сказать, всевозможные блага предоставлялись в первую очередь, 60% проживало в неблагоустроенных квартирах, где постоянно было сыро, холодно и явно не хватало света» 33.
Норма в 8 кв. м. определяет не только перераспределение существующего, но и проектирование будущего жилого фонда. Безусловно, и в Москве, и в других городах страны в 1920–1930-е годы проектировались и строились различные типы домов с различными типами квартир: индивидуальные дома коттеджного типа на одну, две, три, четыре семьи, одно-двухэтажные блокированные дома, малоэтажные деревянные бараки каркасного типа с засыпкой опилками и строительным мусором, многоквартирные многоэтажные секционные дома с двух-трехкомнатными квартирами площадью около 50 кв. м и объемом 120–150 куб. м34. Застройка велась и по новым, и по дореволюционным проектам 35, строилось и индивидуальное, и кооперативное жилище. Но, хотя при проектировании части новых домов предполагалось поквартирное поселение (то есть по одной семье в каждую квартиру), фактически они заселяются «по-комнатно-посемейно» (то есть по одной семье в каждую комнату) 36. По данным переписи 1926 года, в среднем на одну комнату в заселенных городских квартирах приходилось 2,7 человека 37, то есть значительно больше, чем предусматривалось формулой К=N+1. Так феномен «коммунальной квартиры» закрепляется и через заселение нового жилого фонда.
Коммуны в любых своих формах — «бытовые», «молодежные», «трудовые, «бытовые коллективы», «коммунальные квартиры по-комнатно-посемейного заселения» — по-прежнему воплощают стратегическую линию жилищной политики власти. Власть подталкивает жильцов к объединению в коммуны, поощряет возникновение коммун. Так, «президиум ВЦИК включает пункты об организации бытовых коммун в свое постановление «О мероприятиях по проведению Международного женского коммунистического дня 8 марта 1930 г.» и в дополнительное постановление от 25 февраля 1930 г.» 38. К середине марта 1930 года в Ленинграде насчитывается 110 бытовых коммун (или, как их часто называли, «бытовых артелей») и коллективов с 10 тыс. членов 39. В СССР, по ориентировочным данным комсомола, к концу марта 1930 года было примерно 50 тыс. участников «коммунального» движения 40.
Для ускорения процесса образования коммун и интенсификации вовлечения трудящихся в процесс обобществления быта властью при городских и сельских советах создаются специальные органы — так называемые бытовые секции 41. Им предписывается разрабатывать мероприятия по обобществлению «на началах добровольности бытового обслуживания трудящихся» и «укреплению социалистического быта», участвовать в реализации этих мероприятий42. В задачи бытовых секций входит: обеспечивать организацию яслей, детских садов и площадок и других детских учреждений, общественных столовых и специальных учреждений по детскому общественному питанию, прачечных, бань, купален, фабрик-кухонь; содействовать коммунальным, хозяйственным и другим органам в их работе по обслуживанию культурно-бытовых нужд трудящихся; наблюдать за тем, чтобы при строительстве рабочих поселков при крупных промышленных предприятиях были обеспечены гигиенические условия и удобства, а также организованы общественные столовые, ясли, детские сады, механические прачечные и т. п.43
Реальная жизнь в домах-коммунах сильно отличалась от идеала, который публично провозглашала власть. Многие из тех, кто разделял тогда установки власти на создание нового быта, новой культуры человеческих отношений, недоумевали, сравнивая официальные декларации и реальность. «Как очаги новой коллективистической культуры, нового быта, дома-коммуны не оправдали возлагавшихся на них надежд. Это в громадном большинстве случаев дома с обычным дореволюционным укладом жизни, в которых отсутствуют (за редким исключением) коммунальные учреждения» 44. Власть не слишком заботится о практическом воплощении своих планов: объекты бытового обслуживания, даже будучи предусмотренными в проектах, не возводятся; система общественного обслуживания не создается; новые формы самоуправления появляются лишь как результат самодеятельности отдельных групп жильцов, а не как итог усилий власти (хотя, когда ей действительно что-то нужно, она принудительно вводит любые формы организации).
Власть хорошо понимала реальность (для чего целенаправленно создавала разветвленную систему органов надзора, сбора и обобщения информации), контролировала неограниченные сырьевые, материальные, трудовые ресурсы. Если бы новый быт действительно был ее приоритетной целью, она нашла бы силы, средства и организационные возможности для того, чтобы и построить все, что нужно, и оснастить построенное всем необходимым. Возможно, власть преднамеренно вводила в заблуждение относительно целей своей жилищной политики? Верили ли те, кто разрабатывал и осуществлял эту политику, формировал коммунальное жилище, в то, что творят благо? Может быть, коммунальное жилище было лишь вынужденным и временным видом расселения?
Каковы бы то ни были ответы на эти вопросы, нельзя не признать, что осознанно и целенаправленно создаваемое коммунальное жилище во многом воспроизводило вековые формы крестьянского сознания, быта и труда. В традиционном крестьянском сознании были сильны принципы коллективизма, идея справедливой (по традиционным же меркам) оценки способностей и трудового вклада в общее дело или общий быт, справедливого дележа доходов, еды и прочего. В традиционном крестьянском быту «человек всегда был на виду у других. Всем было видно, что он из себя представляет. С рождения детей приучали к тому, чтобы они выглядели хорошими людьми в глазах окружающих, чтобы завоевывали их уважение исключительно положительными качествами» 45. Коллективистские формы организации труда, отдыха и быта также были привычны крестьянам. Поэтому-то идея коммуны и оказалась созвучной настроениям хлынувших в город крестьян, близкой (и в культурном, и в социальном плане) сознанию одной, но многочисленной части рабочих, образуемой выходцами из деревни 46.
Власть не могла игнорировать это сознание и эти настроения. Но она не просто им потакала, нет: она взяла коммунальное жилье за основу своей жилищной политики потому, что придавала ему особое значение. Ибо исходила из точного понимания той мощи, которой обладает рычаг управления под названием «жилище».
Жилище как средство прикрепления к месту работы
Будущее России виделось большевикам индустриальным, а не аграрным. Одним из средств индустриализации должна была стать интенсивная сельско-городская миграция. Ленин по этому поводу высказался совершенно определенно: «Только приток деревенского населения в города, только смешение земледельческого и неземледельческого населения может поднять сельское население из его беспомощности» 47. Приток планировалось обеспечить путем «раскрестьянивания» — отрыва больших масс крестьянства от сельского уклада жизни и вовлечения их в уклад городской. В дальнейшем, по концепции социалистического расселения, полученные таким образом трудовые контингенты должны были распределяться по стране в соответствии со схемами размещения новых промышленных предприятий, нуждавшихся в рабочих руках.
У раскрестьянивания была, однако, неприятная оборотная сторона: текучесть кадров. Текучесть рабочей силы вследствие ее свободного перемещения с одного предприятия на другое существовала всегда: в поисках лучших условий труда, по причине несоответствия своей квалификации требованиям конкретного производства, конфликтов с руководством и т. д. рабочие могли не один раз менять место работы. Но уже в 1923–1925 годах эту проблему заслонила (и одновременно обострила) другая — неконтролируемое перемещение людей из деревни в город и из одного населенного пункта в другой. Перебираясь в города и устраиваясь на фабрики и заводы, выходцы из деревень упорно не желали трудиться на одном и том же месте постоянно. В своем докладе ХIV съезду (1925) Председатель ВЦСПС Томский так характеризовал это новое городское население.
«Из каких элементов пополняется промышленная группа? Часть бесспорно за счет пролетарского элемента — дети рабочих, большинство комсомольцы. Это молодой, свежий элемент. Незначительная часть — старые рабочие, которые теперь возвращаются в крупные города из деревень, куда они сбежали во время голода. Большая же часть — свежие крестьянские элементы, крестьянская молодежь. Это те новые рабочие, которые за два года пополнили нашу промышленность и каждый год прибавляют на 14%. Этот состав не связан с историей рабочего класса последних революционных годов, он не знаком с фабрикой, не прошел фабричную школу, не является активным участником гражданской войны, той героической борьбы наших рабочих, которая происходила в эти годы... Можно несколько остановиться на этом новом типе рабочего, пришедшего из деревни, который рассматривает себя до известной степени как гостя, как временного жителя фабрик и заводов. Под воскресенье, в субботу такой рабочий уезжает с заработком в свою деревню, к понедельнику он возвращается на работу с котомкой, в которой он приносит хлеб, картошку и другие продукты на неделю. Держится такой рабочий от общественной жизни рабочих... особняком» 48.
Подобный люд был легко увлекаем новой властью, но при этом был и довольно независим от нее, а потому ненадежен. Власть не могла полагаться на него в своих долгосрочных планах, так как он не обрел оседлости. Он мог вновь уйти из города в поисках лучшей жизни. И уходил — благо, было куда уходить. «Среди новых шахтеров Донбасса — 24%, а среди металлистов Московской области, принятых на работу в 30-е гг., сохранили землю в деревне 25%. Из пополнения рабочего класса в 1926–1929 гг. в целом по стране... имели землю почти 23%» 49. И эта часть «пополнения» отнюдь не спешила порывать свою экономическую связь с деревней. «В 1929 г. из металлистов СССР, имевших землю, 62% продолжали участвовать в сельскохозяйственных работах. Лишь 26% металлистов-“зем-левладельцев” было без посева и без скота, но 47% — и с посевом, и со скотом» 50. Право этих людей на землепользование в деревне давало им нечто вроде жизненной опоры, пристанище, где они могли укрыться в случае неудачи своей городской карьеры, отсидеться, прокормиться, а значит — и ощущение собственной независимости.
Чтобы сделать трудовой контингент из бывших крестьян, сохранивших за собой земельный надел в деревне, зависимым и послушным, власть пробует различные способы их прикрепления к рабочим местам. В 1921 году Совет труда и обороны принимает постановление «О трудовых частях» 51, в котором узаконивает формирование «трудовых армий» 52 или «армейско-производственных» соединений. Трудармия предполагала соответствующую дисциплину, «за уклонение от работы полагалось строгое наказание, как за дезертирство» 53. Однако надежды на нее как на мощную производственную единицу не оправдались, трудовые части пришлось распустить.
Взамен ставка была сделана на так называемые дома-коммуны. Создавая их, власть надеялась, помимо других задач, возлагавшихся на этот тип жилья, сформировать производственные коллективы, скрепляемые не только трудовой дисциплиной, но и совместным проживанием. Их так и называли: «трудо-бытовые коммуны».
«Трудо-бытовая» коммуна являла собой особый вид объединения людей. Предполагалось, что в нем за счет «прозрачности» жизни предметом каждодневных бытовых разговоров и обсуждений станут трудовые дела, стремление обрести высокий статус по месту жительства будет подталкивать к новым трудовым свершениям, дру-жески-авторитарные связи протянутся из жилой среды в трудовую и обратно, производственные и бытовые отношения станут взаимо-опосредованными. Благодаря такому переплетению и слиянию коллективно-трудовых и коллективно-бытовых отношений должна была создасться особая моральная обстановка: в ней прогульщики и нарушители трудовой дисциплины чувствовали бы себя в среде своих соседей-товарищей осуждаемыми и презираемыми, а передовики производства, вдохновляемые всеобщим уважением, почитанием и восхищением, наоборот, получали бы дополнительные стимулы к трудовым подвигам 54.
Согласно декрету СНК от 10 сентября 1921 года место работы должно было обеспечивать трудящегося заработной платой (которая включала в себя денежную плату, продовольствие и предметы потребления, производственную одежду, внеплановые выдачи и т. п.); компенсировать ему расходы по квартире, отоплению, освещению, водопроводу и другим коммунальным услугам, а также предоставлять услуги парикмахерских и бань, возможность посещения куль- турных заведений, в частности театра, «продукты с огородов и советских хозяйств», средства передвижения, семейные пайки и другие пайки, выдаваемые дополнительно к заработной плате на семью рабочего и служащего 55. По содержанию декрета видно, что связь между работой и жилищем мыслилась как многофункциональная: не просто «жилплощадь», но и вся совокупность коммунальных и даже культурных услуг по месту жительства попадала в зависимость от факта, а значит и места работы. Здесь, на этом месте распределялись средства к существованию, организовывался досуг, обеспечивались доступ к разнообразным благам и привилегиям, возможность проявить себя в борьбе за лидерство, за упрочение своего положения в коллективе, за продвижение по службе.
Коммуны должны были составить костяк рабочей массы, превратиться в высокоэффективные коллективные единицы производительных сил нового общества. В идеале они должны были вобрать в себя все население страны.
Органом, организующим, направляющим и контролирующим «трудо-бытовой» коллектив, предстояло стать администрации предприятий и учреждений. Власть предпринимает меры к тому, чтобы сосредоточить в руках администрации все материальные средства прикрепления работников к месту работы. Декрет СНК от 10 сентября 1921 года прямо указывает: «Выдача и предоставление рабочему и служащему всего, что входит в заработную плату, должно производиться исключительно через предприятие и учреждение, исключительно через заводоуправление, чтобы связь рабочего и служащего с предприятием и учреждением была полной» 56. В резолюции X съезда РКП(б) «Об улучшении положения рабочих и нуждающихся крестьян» указано: «Политика партии должна быть направлена к тому, чтобы в кратчайший срок обеспечить, по крайней мере, для рабочих важнейших центров республики такой паек и такие условия жизни, которые действительно были бы для них стимулом оставаться на фабриках и заводах. Проведение натурализации заработной платы необходимо в первую очередь в этих главных центрах республики» 57. В тот же период, в целях сосредоточения в руках администрации также и финансовых возможностей по обеспечению функционирования «трудо-бытовых» коллективов, власть принимает решение о предоставлении предприятиям более широких прав в области финансирования и распоряжения материальными ресурсами 58.
Закономерна и установка власти на передачу домов-коммун предприятиям, на которых трудились трудо-бытовые коллективы.
С введением НЭПа власть освобождает себя от содержания этих домов, полностью оставляет их на попечении предприятий. Но любое предприятие готово было заботиться о домах-коммунах лишь при том условии, что в них проживают исключительно рабочие данного предприятия. Опекать «чужих» администрация предприятий не собиралась. Между тем обследование 255 домов-коммун, проведенное к началу 1923 года, показало, что почти половина проживавших в них рабочих (43,2%) были заняты не на тех предприятиях, которым принадлежали эти дома 59. Другими словами, дома-коммуны не оправдывали расчетов на то, что с их помощью можно будет прочно привязать определенные группы рабочих к определенному предприятию.
В 1923–1925 годах и позднее из города в деревню направляется мощный поток возвратной миграции 60. В него вливаются не только вчерашние крестьяне, но и городские рабочие, уже давно живущие в городе. Не менее активным был процесс циклической миграции 61. Одной из причин того и другого были трудности с жильем. Например, в металлургическом центре Северного Урала городе Надеждин-ске в 1925 году 2/ 3 рабочих «являлись текучей массой, приезжавшей на заработок и уезжавшей из-за отсутствия жилья» 62. Власти же миграционные потоки нужны были лишь в одну сторону — из деревни в город. Нужно было подчинить организующей воли партии — привязать к рабочим местам, к промышленному производству — трудовые ресурсы, «болтающиеся» между городом и деревней, вернуть обратно в город тех, кто сумел обустроиться в деревне и осесть на земле 63. Для этого трудовые коллективы должны были полностью зависеть от администрации предприятий и учреждений («заводоуправлений») 64 и, если и перемещаться, то целенаправленно и планомерно, причем именно туда, куда нужно власти.
В связи с необходимостью приостановить текучесть рабочей силы 65 и решить-таки задачу формирования полноценных «трудобытовых коммун» посредством заселения в дома, принадлежащие предприятиям, действительно работающих на них рабочих принимаются решения о «расчистке» жилища, закрепленного за учреждениями и предприятиями, от лиц, переставших работать на них. Декрет СНК от 8 мая 1922 года снимает всякие ограничения с выселения нетрудового элемента из домов-коммун 66. Декрет от 12 июля того же года разрешает выселение в административном порядке лиц, прекративших службу в системе ВЦИК и ВЦСПС 67. Декрет от 28 июля предоставляет Коммунистическим университетам и всем приравненным к ним учебным заведениям «право выселения в административном порядке из занимаемых ими зданий всех граждан, не состоящих на службе в означенных университетах» 68. А декрет от 6 сентября 69 предписывает выселять граждан, не принадлежащих к данному предприятию, из всех без исключения домов, «закрепленных» за предприятиями и учреждениями 70. Наконец, в январе 1924 года ВЦИК и СНК принимают инструкцию «О выселении граждан из занимаемых ими помещений» 71, которая законодательно закрепляет право выселения граждан из занимаемого ими жилья, в том случае, если они не работают на предприятии, за которым закреплено данное жилище 72. Так администрация предприятий и учреждений получает возможность формировать вполне подчиненные ей «трудо-бытовые» коммуны.
Другой категорией населения, которую власть планировала сделать послушной, был «потомственный пролетариат». Именно кадровый рабочий класс 73 должен был, по замыслу теоретиков и идеологов партии, стать основным исполнителем планов строительства социализма в СССР, костяком «трудо-бытовых» коммун.
В городе партии удавалось значительно лучше, нежели в деревне, отладить структуры своего воздействия на трудящиеся массы. Еще «в декабре 1919 года в низовые партийные организации была спущена директива, предписывающая создавать партийные ячейки в любой организации, учреждении или на предприятии, где работают не менее трех коммунистов. Задачей этих ячеек было усиление влияния партии на всех направлениях, проведение политики партии среди беспартийных и осуществление партийного контроля над работой всех предприятий и учреждений» 74.
Но, несмотря на проникновение партийной структуры в массу рабочего класса, мощное воздействие большевистской идеологии и пропаганды, городские рабочие не желали быть молчаливыми и послушными исполнителями любых и всяческих приказов. Они были недовольны низкой заработной платой («в 1925 г. Сокольников, народный комиссар финансов, отметил, что оплата труда шахтеров, металлистов и машинистов паровозов была все еще ниже, чем в 1914 г.» 75), жилищными условиями и публично выражали свое недовольство («происходит множество дискуссий и забастовок, в основном связанных с проблемами жилища, снабжения продовольствием, несвоевременной и недостаточной оплатой труда или с конфликтами с конкретными администраторами» 76). К партийным установкам рабочие относились с недоверием. «Фактически большинство рабочих относилось к партии как к “ним” — части структуры власти, с которой они вынуждены иметь дело. Политические... собрания считались “скучными” и избегались» 77.
Как же манипулировать таким рабочим, который от общественной жизни держится особняком, идеологической обработке поддается плохо и в силу своей квалификации может самостоятельно заработать на пропитание себе и семье? Как сделать его послушным исполнителем государственной воли? С помощью какого средства?
У власти был ответ и имелось средство. Ответ практический, средство эффективное, апробированное и неизменно дающее положительные результаты: жилище. И власть использует это средство — ставит всех, кто склонен к свободным перемещениям, в ситуацию реальной угрозы потери жилища в случае выезда на продолжительное время без согласия администрации предприятия, на котором те работают 78.
В Москве специальным постановлением Моссовета от 28 июля 1924 года устанавливаются следующие условия сохранения жилплощади:
«Жилая площадь сохраняется... а) за рабочими и служащими, командированными за пределы Москвы... на срок командировки, но не более 2 месяцев со дня выдачи командировочного мандата. Срок может быть продлен не свыше чем на 1 месяц по заявлению командирующего учреждения; б) за рабочими и служащими, уезжающими в отпуск... на срок этого отпуска; в) за больным, уезжающим на лечение — не более 3 месяцев (помещенными в больницу — до выписки); г) за лицами, уезжающими на дачи в течение летних месяцев (с 15 апреля по 30-е сентября); д) за учащимися, уезжающими на каникулы — на срок каникул; е) за арестованными: 1) подследственными — до момента их освобождения, 2) осужденными... не свыше 3 месяцев; ж) за гражданами, временно уезжающими по личным делам — на срок не свыше 1,5 месяцев. В случае невозвращения временно отсутствующих жильцов, по истечении 7 дней сверх указанных сроков, они считаются выселившимися, а занимаемая ими площадь освободившейся» 79.
Стоит кому-то самовольно покинуть занимаемую им жилплощадь, как ее тотчас же занимают соседи на основании уже упоминавшегося права на «самоуплотнение» 80. Разумеется, это право власть в первую очередь предоставляет рабочим и служащим. Но также — все более расширяющемуся кругу «попутчиков»: представителям технической, научной и творческой интеллигенции, которую власть привлекает на свою сторону, в том числе и за счет жилищных льгот.
В то же время власть проявляет заботу о тех, кого она направляет на работу в отдаленных районах, кто находится в отъезде не по своей прихоти, а по производственной необходимости. Уезжающим с постоянного места жительства по трудовым договорам гарантируется сохранение жилплощади на весь срок действия договора 81. За теми же, кто оставляет постоянное место жительства без трудовой необходимости, жилище сохраняется в течение не более трех месяцев 82. Исключение может быть сделано местными исполнительными органами только для учащихся, уехавших на учебу и/или на каникулы, и для лиц, отъезжающих в отдаленные местности СССР либо за границу для продолжительного лечения. Но и этом случае жилая площадь сохраняется лишь при условии своевременного взноса квартирной платы и других квартирных платежей. «Невозвращение отсутствующего жильца в течение установленного срока... дает возможность на предъявление иска о выселении жильца в порядке судебного приказа» 83.
Несмотря на эти меры, к 1927 году миграционный отток рабочих из городов достигает угрожающего уровня, ощутимо мешает реализации программы индустриализации. Поэтому власть усиливает давление на мигрантов посредством жилья. Теперь любой из живущих в коммунальной квартире, будь то владелец или съемщик квар-тиры/комнаты, может, в случае долгосрочного выезда кого-либо из проживающих, вселить к себе кого угодно (даже не родственника) на образующиеся таким образом излишки. Вселенный обретает постоянное и законное право на предоставленную ему площадь.
По существу, после выхода инструкции «О выселении...» власть возвращается к политике, использованной ею ранее и тогда оправдавшей себя, — к «квартирному переделу». Однако выход оказывается вовсе не выходом, а паллиативом. Выше отмечалось, что одной из существенных причин возвратной миграции было отсутствие или низкое качество городского жилья. Возникает замкнутый круг: чем больше власть старается удержать в городах выходцев из деревни, направить в города новые отряды раскрестьяненных, тем больше она сама обостряет жилищный кризис, выталкивающий людей из городов.
Чтобы разорвать этот круг для себя, власть помещает в такой же замкнутый круг работника — окончательно закрепощает его административными мерами, делающими связку «работа — жилье» неразрывной и фактически принудительной в обоих ее звеньях. Достигается это тремя последовательными шагами. В 1932 году вводятся паспортная система и прописка. Рабочая сила обязывается к проживанию при производстве, причем в количестве, исключающем ее избыток и, следовательно, конкуренцию и безработицу. (В соответствующем постановлении ЦИК и СНК эта цель выражена прямым текстом: «В целях... разгрузки... населенных мест от лиц, не связанных с производством и... не занятых общественно-полезным трудом...» 84.) С 15 января 1939 года вводятся в действие трудовые книжки 85, обеспечивающие не только постоянный учет рабочих и служащих, но и систематическую фиксацию их отношения к трудовой деятельности — в виде записей о причинах увольнения, взысканиях, переводах по службе, должностном росте, поощрениях и награждениях, связанных с работой. А в 1940 году Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» 86 окончательно прикрепляет рабочих и служащих к месту работы.
Сразу же следует подчеркнуть, что предпринимая эти шаги, власть не изобретает ничего нового. Она лишь придает тотальный характер давно отработанным ею способам контроля за населением. Уже в первые послереволюционные годы в России существовали и паспорта, и трудовые книжки 87, и прочие документы, удостоверяющие личность и привязывающие людей к месту работы и месту проживания.
В 1918 году в рамках кампании за всеобщую и обязательную трудовую повинность 88 вводится «временное трудовое свидетельство для буржуазии» 89. Официально оно называлось «трудовая книжка для нетрудящихся» 90. Данный документ выдавался взамен удостоверения личности или паспорта 91 следующим лицам, жившим на нетрудовой доход: прибегающим к наемному труду; членам советов и правлений, директорам акционерных обществ и товариществ; частным торговцам; биржевым маклерам; торговым и коммерческим посредникам; лицам свободных профессий; офицерам, воспитанникам юнкерских училищ и кадетских корпусов; бывшим присяжным поверенным и их помощникам и т. д.92 В трудовые книжки не реже одного раза в месяц вносилась отметка о выполнении их владельцами возложенных на них трудовых повинностей, и только при наличии такой пометки книжка считалась действительной. И только при наличии действительной трудовой книжки нетрудящиеся могли пользоваться правом «передвижения и переезда как по территории Советской Республики, так и в пределах каждого отдельного поселения и правом получения продовольственных карточек» 93.
Структура и содержание трудовой книжки (за исключением нескольких первых пунктов) близки к структуре и содержанию будущего удостоверения личности образца 1927 года. В ней указывались род занятий и звание владельца до революции, его имущественное положение, возраст или время рождения, место рождения, место постоянного жительства, семейное положение, лица на содержании владельца, прописка, отношение к отбыванию красноармейской повинности, на основании каких документов и кем выдано трудовое свидетельство. Далее следовали отметки о выполнении трудовых повинностей 94.
Наименование книжки для «нетрудящихся» «трудовой» парадоксально лишь на первый взгляд. По сути оно абсолютно правильное, так как введением подобных книжек власть целенаправленно принуждала «нетрудящихся» именно к труду. Сбой в регулярном исполнении «нетрудящимся лицом» общественных трудовых повинностей и, как следствие, в ежемесячном заполнении трудовой книжки, ставил его в полностью бесправное и безысходное положение: человек лишался даже возможности выйти из дома, не говоря уж о возможности получать продуктовые карточки и питаться.
В 1919 году подобные трудовые книжки вводятся для всех лиц, достигших 16-летнего возраста, в Москве и Петрограде 95. Книжка призвана свидетельствовать «об участии их владельца в производственной деятельности и служить удостоверением личности в пределах РСФСР», а также документом на право получения продовольственных карточек, на социальное обеспечение в случаях утраты трудоспособности и при безработице 96. Трудовые книжки заменяют паспорта и иные удостоверения личности — выдаются при предъявлении паспорта, который при выдаче книжки отбирается 97. Военнослужащие обязываются иметь трудовые книжки наряду со всеми 98. В трудовых книжках делается отметка о месте жительства 99.
В 1922 году «трудовые книжки», выполняющие роль удостоверения личности, дополняются «расчетными книжками», играющими роль собственно «трудовых» 100. Расчетная книжка служит «договором между нанявшимся и нанимателем»: в нее вклеены (вшиты) правила внутреннего распорядка данного предприятия, она подписывается обеими сторонами, исполнение условий найма обязательно для обеих сторон 101. А ближе к концу года выходит постановление СНК об обязательной для всех ведомств выдаче своим ответственным сотрудникам постоянных личных удостоверений, «содержащих на одной стороне надлежащим образом заверенные указания на занимаемую должность, имя, отчество и фамилию сотрудника и на обороте — ссылки или выписки из статей закона или положения о данном учреждении или предприятии» 102. Привязка человека к месту работы формализуется еще больше.
Вместе с тем по окончании Гражданской войны и в связи с переходом к новой экономической политике жесткие меры военного времени по закреплению работников за предприятиями несколько смягчаются. Появляется декрет «Об установлении облегченного перехода рабочих и служащих из одного предприятия в другое» 103. Но и принимая его, власть действует в полном соответствии со своей главной стратегической задачей — задачей формирования «трудобытовых» коммун. Право на принятие решения о переходе рабочих с предприятия на предприятие закрепляется за администрацией, которая может разрешить, а может и не разрешить такой переход. Впрочем, декрет ограничивает и свободу решений администрации — оговаривает, что разрешение на переход может быть дано лишь «в случаях, когда это вызвано бытовыми, семейными и производственными обстоятельствами», и при обязательном условии «полного обеспечения нормального хода производства в интересах народного хозяйства» 104. При этом власть усиливает нажим на так называемых трудовых дезертиров 105, к которым относит: а) самовольно оставивших работу или службу; б) продолжающих трудиться, но самовольно перешедших на работу на другое предприятие; в) уклоняющихся от явки на работу по назначению или трудовой мобилизации; г) уклоняющихся от учета и регистрации органов, проводящих трудовые мобилизации; д) не явившихся в обязательном порядке за распределением на новую работу после увольнения со старой; е) уклоняющихся от трудовой повинности путем подлога документов, фиктивных командировок, симуляции болезни 106. Трудиться должны все — и не перепрыгивать при этом с места на место.
Далее, в июле 1921 года начинается эксперимент по переходу служащих центральных советских учреждений в Москве и Петрограде на «коллективную» (денежную и натуральную) оплату труда 107. Осуществляется он с целью принудить руководство и самих сотрудников (коллектив) к сокращению штатов, улучшению качества работы и повышению производительности труда. Рычаг воздействия здесь такой: учреждению, переведенному на коллективное снабжение, выделяется неизменный фонд денежной и натуральной заработной платы108, так что любой прирост в оплате труда оказывается обусловлен сокращением штатов (допустимый предел — до 50%). То есть власть настоятельно подталкивает учреждения к «самосокращению», а в качестве стимула фактически допускает повышение заработной платы оставшимся сотрудникам (даже двухкратное). А поскольку русский человек часто готов сам нуждаться, но не брать на душу грех изгнания с работы ближнего, оговаривается и этот случай.
«Если учреждение, переведенное на коллективное снабжение, в 2-х месячный срок не сократит числа своих сотрудников, не сократит прогулов и не поднимет производительность труда, то Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов по соглашению с Народным Комиссариатом Юстиции и Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции принимает в отношении учреждения нижеследующие репрессивные меры: 1) немедленное увольнение установленных ими категорий служащих; 2) лишение учреждения части снабжения вплоть до полного сокращения снабжения и 3) предание суду лиц, ответственных за проведение настоящего постановления и связанных с ним мероприятий» 109.
В июне 1923 года власть идет еще дальше по пути относительной либерализации: ВЦИК и СНК объявляют утратившими силу все свои прежние декреты об удостоверениях личности. «Органам управления воспрещается требовать от граждан РСФСР обязательного предъявления паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР» 110. Паспорта и другие виды на жительство для российских граждан внутри РСФСР, а также трудовые книжки, введенные декретом ВЦИК и СНК от 25 июня 1919 года, аннулируются с 1-го января 1924 года. «Во всех случаях, когда гражданину РСФСР надлежит удостоверить перед органами управления свою личность, достаточным считается представление письменного удостоверения личности» 111. Военнослужащие представляют книжки красноармейцев и соответствующие документы командного состава, моряки — мореходные книжки 112. А в следующем месяце выходит Постановление наркомов юстиции и внутренних дел «Об освобождении из-под стражи лиц, задержанных за бесписьменность» 113. Предлагается освободить всех, кто был задержан и заключен под стражу по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность («Освобождению подлежат... пересыльные заключенные, если причиной их задержания и пересылки служит отсутствие удостоверения личности или вида на жительство» 114).
Однако уже с 1925 года намечается поворот в другую сторону, для всех граждан РСФСР обязательной становится прописка 115. Спустя два года происходит фактический возврат к положению, существовавшему до принятия «либерального» декрета ВЦИК и СНК от 20 июня 1923 года. Постановлением ВЦИК и СНК от 8 июля 1927 года 116 каждому гражданину РСФСР вменяется в обязанность иметь и предъявлять по требованию органов управления удостоверение личности, содержащее следующие графы: фамилия, имя и отчество получателя; год, месяц, число и место рождения; место постоянного проживания; род занятий (основная профессия); отношение к обязательной воинской службе; семейное положение; перечень малолетних до 16 лет, находящихся на иждивении данного лица; на основании какого документа и каким учреждением выдано удостоверение; личная подпись получателя; место и время выдачи удостоверения, подпись ответственного лица и печать органа, выдавшего удостоверение. Кроме того, удостоверение образца 1927 года, как и все предшествующие удостоверяющие документы, содержало графу «прописка», а по желанию получателя на него могла быть наклеена его фотографическая карточка, надлежащим образом заверенная 117. В общем, новое удостоверение мало чем отличалось от введенного позже паспорта.
И это, и более ранние удостоверения выполняли двойную контрольную функцию. С одной стороны, они прикрепляли к месту работы, обеспечивали плотную зависимость человека от наличия или отсутствия факта трудоустройства. Реализовываться первая функция начинала еще на стадии выдачи удостоверения, поскольку обязательным условием его получения было предъявление «служебного удостоверения» или «расчетной книжки с места работы или службы» 118. С другой стороны, удостоверения привязывали к месту жительства. Достигалось это также еще на стадии выдачи: его невозможно было получить без предъявление «справки домоуправления или сельского совета о проживании (выписки из домовой книги или подворного списка)» 119. Да и сама выдача удостоверений осуществлялась исключительно по месту жительства 120.
27 декабря 1932 года ЦИК и СНК СССР решают «ввести единую паспортную систему с обязательной пропиской по всему Союзу ССР в течение 1933 г., охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Минска, Одессы, Ростова-на-Дону и Владивостока» 121. В тот же день ими принимается «Положение о паспортах» 122, в котором указано, что «в паспорт обязательно заносится... постоянное местожительство...» 123 и подчеркивается, что «прописка лиц в местности, где введена паспортная система, безус- ловно обязательна» 124. Спустя шесть лет к советским гражданам приходит еще один жизненно важный для них документ — трудовая книжка. Чтобы усилить его значимость, власть обязывает администрацию предприятий/учреждений «принимать на работу рабочих и служащих только при предъявлении трудовой книжки» 125. Охват трудообязанного населения трудовыми книжками должен быть полным и всеобъемлющим: трудовые книжки заводятся на всех без исключения рабочих и служащих предприятия, работающих на нем свыше 5 дней, в том числе на сезонных и временных работников; работающие по совместительству имеют трудовую книжку по основному месту работы 126. «Незаконное пользование трудовыми книжками, передача их другим лицам, подделка и подчистка их караются в уголовном порядке» 127.
Характерно, что буквально через неделю после введения трудовых книжек начинается кампания по укреплению трудовой дисциплины и борьбе с теми, кто ее подрывает, — с перечисленными в строго алфавитном порядке летунами, лодырями, прогульщиками и рвачами. Принимается соответствующее совместное постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 128. «Летуны, лодыри, прогульщики и рвачи» изображены в нем черной краской: эти недобросовестные работники прогуливают, опаздывают, бесцельно ходят по предприятию в рабочее время, нарушают правила внутреннего трудового распорядка. «Все это составляет грубейшее нарушение трудовой дисциплины, нарушение закона, влекущее за собой подрыв хозяйственной и оборонной мощи страны и благосостояния народа» 129. Но не только (а, может быть, даже и не столько) в этом их вина. Они мешают власти в осуществлении ее фундаментальной стратегии формирования «трудо-бытовых» коллективов. Мешают, во-первых, тем, что «часто и самовольно переходят с одних предприятий на другие» 130 и таким образом «размывают» целостность трудовых коллективов. Во-вторых, тем, что, даже будучи «уволенными за нарушение трудовой дисциплины или самовольно бросившими работу на предприятии», они продолжают занимать жилпощадь «в домах, построенных заводами и фабриками для своих рабочих» 131. Этим они «размывают» целостность бытовых коллективов. Поэтому их следует решительным образом увольнять с работы 132 и выселять из ведомственного жилища 133. Постановление также дает администрации возможность ущемлять права нарушителей трудовой дисциплины в пользовании распределительной системой («проводить резкое различие между добросовестными работниками и нарушите- лями трудовой дисциплины в выплате страховых пособий по временной нетрудоспособности, в распределении путевок в дома отдыха и санатории, при назначении пенсий и проч.» 134). Одновременно оно предписывает поощрять работников к постоянной работе на одном месте, к набору ими большего трудового стажа на данном предприятии 135.
Вооружившись трудовыми книжками и паспортами, власть могла теперь нанести последний удар, поставить точку в своей борьбе с неконтролируемыми перемещениями рабочей силы: 26 июня 1940 года Верховный Совет СССР принимает указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» 136, а также ряд сопутствующих постановлений 137. Вместе с принятием указа власть начинала новый виток организационных усилий по созданию строго упорядоченной структуры руководства трудовыми (и «трудо-бытовыми») коллективами промышленных предприятий. В ней жилищу по-прежнему отводилась главная роль. Но тут вмешалась война...
Жилище как средство принуждения к труду
С первых дней существования советского государства его руководство стремилось к тому, чтобы все население страны самозабвенно трудилось и чтобы труд этот давал высокую отдачу. Но как обеспечить трудовую дисциплину? Как при бестоварном, безденежном, безрыночном социализме, когда материальные стимулы не действуют, добиться ответственного отношения к работе «плохо трудящихся»? И как заставить работать «нетрудящихся» — тех, кто не хочет работать не по специальности или на неприемлемых условиях либо не желает сотрудничать с новой властью из идейных соображений?
По отношению ко всем ним власть занимает позицию жесткого принуждения. Принудительная организация жизнедеятельности воспринимается как нечто совершенно нормальное, революционное сознание давно подготовлено к этому теоретиками партии. В первые годы революции Н. И. Бухарин писал, что диктатура пролетариата, само советское государство служат делу разрушения старых экономических связей и созидания новых. А осуществляется это благодаря «концентрированному насилию», которое обращается не только вовне, на буржуазию, но отчасти и «вовнутрь»; и тогда насилие является фактором «самоорганизации и принудительной самодисциплины трудящихся». «Верно!» — откликнулся Ленин, пометив слово «вовнутрь» и за счет выделения чертой перенеся в словах «самодисциплины трудящихся» акцент на «...дисциплины трудящихся» 138. У власти не было сомнений в том, что советское государство должно заставлять людей жить и работать там, где ему нужно и так, как нужно. Ибо «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это не звучит, методом выработки коммунистического человеческого материала из человеческого материала капиталистической эпохи». Так утверждал Бухарин. «Именно!» — так одобрил его мысль Ленин 139.
Поэтому, едва захватив власть, большевики заставляют «нетрудя-щихся» работать. В октябре 1918 года, как мы помним, вводятся «трудовые книжки для нетрудящихся» с целью привлечения их к выполнению общественных работ или трудовых повинностей. Массового привлечения не произошло, рабочей силы не хватает 140, и 29 января 1920 года декретом «О порядке трудовой повинности» 141 власть снова делает попытку обеспечения народного хозяйства рабочими руками. Но еще раньше она обращается к более эффективной мере — к использованию жилища в качестве средства принуждения к труду, средства дисциплинарного воздействия на «нетрудящиеся» и/или «плохо трудящиеся» массы. Жилищная политика изначально основывается на принципе принудительности.
Правда, применяется эта политика дифференцированно. Власть проводит резкую границу между «социально близкими» и «социально чуждыми» элементами. Относительно «социально близких», априори отождествляемых с «трудящимися», она осуществляет меры по улучшению их жилищных условий: переселяет в бывшие «богатые» квартиры, обеспечивает мебелью, реквизированной у буржуазии, освобождает от квартплаты, обязывает «жилищные подотделы строжайшим образом следить за тем, чтобы выселение граждан (из числа «социально близких». — М. М. ) допускалось лишь в случаях особой общественной необходимости с соблюдением всех гарантий для выселяемых...» 142. «Социально чуждые нетрудящие-ся» — иное дело. Их, как мы видели, безжалостно уплотняют и выселяют. А чтобы им негде было отсидеться, в 1923 году принимается решение о выселении из муниципализированных дач лиц, не имеющих ордера на проживание 143.
В 1927–1929 годах, когда разрабатываются и начинают реализовываться планы ускоренной индустриализации 144, власть в очередной раз обращает внимание на «нетрудящихся» из числа «социально чуждых». И снова она понуждает их работать с помощью жилищной политики. Но, в сравнении с периодом нэпа, она резко ужесточает меры своего воздействия. В ноябре 1927 года выходит постановление СНК «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях» 145. Отныне лицам с нетрудовыми доходами запрещается селиться в муниципализированных и национализированных домах; у них, как у неработающих, отнимаются излишки жилой площади (если таковая имеется); им оставляется, по существу, единственный способ сохранить крышу над головой — перестать сопротивляться принуждению к работе на государство 146.
Либо вливайся в «трудовые коллективы» и, став их членом, играй по правилам власти, ищи ее расположения, подчиняйся ее установкам, разделяй ее цели и идеалы (самоотверженно трудиться, проявлять активность в общественной жизни, старательно социализироваться и т. п.), либо окажешься на улице. Третьего не дано, власть безжалостно изгоняет из жилища всех, кто ей не подчиняется, и в результате исполнения декрета «Об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений» 147 многие люди оказываются в положении, когда им негде жить.
«Уклонисты» все-таки пытаются найти какой-то выход и самовольно вселяются в любые пригодные для жилья помещения: в котельные, склады и неработающие магазины, в заброшенные промышленные постройки, отслужившие свой срок железнодорожные вагоны, пустующие конюшни и гаражи. По данным Первой всесоюзной переписи, в 1925 году около 0,5% населения, или 120 тыс. человек, проживало в нежилых помещениях 148. Но не для того власть последовательно выстраивает и оптимизирует свою жилищную политику, непрерывно совершенствует законодательство, обеспечивающее ее правовую сторону, чтобы смириться с тем, что кто-то выпадает из-под тотального контроля посредством жилища, тотального подчинения посредством жилища. 20 декабря 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР издают постановление, согласно которому все такие лица «подлежат выселению в административном порядке через милицию» 149. Речь при этом идет о строениях, находящихся в государственной собственности. А как поступать в тех случаях, когда самовольно занимаются нежилые помещения, принадлежащие частным владельцам? Разве эти владельцы не вправе сами решать, пускать или не пускать «постояльцев» в пустующие склады, свинарники и конюшни, и если пускать, то кого? В постановлении проводится различие между государственным и частным нежилым помещением. Но не следует думать, что власть примет решение, противоречащее ее стратегическим целям. Частная собственность не должна служить прибежищем для гонимых властью. Из частновладельческих строений «самовольщики» также должны выселяться, просто в ином порядке — через суд 150.
Поскольку к «нетрудовым элементам» жилищная политика обращена своей дискриминационной стороной, круг возможностей для них занять жилую площадь изначально сужен и все более сужается по сравнению с каждым предыдущим постановлением. В августе 1927 года им запрещен обмен жилой площади 151, в декабре того же года их лишают права на вселение в порядке самоуплотнения 152. В январе 1928 года выходит постановление ЦИК и СНК СССР «О жилищной политике», в соответствие с которым «заселение освобождающихся помещений в муниципализированных домах лицами нетрудовых категорий должно быть прекращено. А «в отношении лиц нетрудовых категорий, доход которых, облагаемый подоходным налогом, превышает 3000 рублей в год, срок найма помещений после 1 октября 1929 г. не может быть продлен» 153.
В апреле следующего года ВЦИК и СНК РСФСР разражаются новым документом 154, ужесточающим январское постановление 1928 года. Теперь уже не только не продляются с «нетрудящимися лицами» договоры о найме жилых помещений, срок которых истекает, но после 1 октября 1929 года должны расторгаться действующие договоры, а сами эти лица подлежат выселению «в административном порядке без предоставления жилой площади» 155. В муниципализированных и национализированных домах жить им запрещается и вселиться в них они не могут никаким образом 156.
Причина такого давления власти на «нетрудящихся» очевидна: испытывая острую потребность в рабочей силе, она предпринимает очередную попытку вовлечь в производственную деятельность все свободные, по ее мнению, рабочие руки. Но не путем улучшения условий труда, его оплаты, каких-то других форм стимулирования, а так, как ей проще и привычнее, — путем принуждения. Нетру-дящимся предлагается либо идти работать в государственные учреждения и на предприятия, либо... Выбор фактически отсутствует, все прежние лазейки, создававшие видимость альтернативы, перекрыты.
С особой силой власть обрушивается на «классовых врагов» — не работающих бывших домовладельцев, продолжающих проживать в некогда принадлежавших им домах. Она понимает, что, отстаивая свои убеждения, эти люди могут перетерпеть многое, но станут значительно уступчивее, когда под угрозой окажутся их близкие. Поэтому, чтобы легче было совладать с самыми упрямыми, бывших домовладельцев выселяют вместе с семьями, всеми находящимися на их попечении иждивенцами 157.
Так решаются сразу три задачи: ликвидируется дефицит рабочих рук; люди ставятся в прямую зависимость от администрации предприятий и учреждений; государство получает в свое распоряжение освободившуюся площадь для заселения ее по собственному усмотрению теми, кто соответствует в своем поведении и труде требованиям власти. Одним выстрелом — трех зайцев, это более чем удачно.
Не только кое-кто из «бывших» не желает работать. Немало «нынешних» тоже не рвется трудиться — прогуливают, самовольно прекращают трудовую деятельность, «перебегают» с предприятия на предприятие. Меры, применяемые к «трудовым дезертирам» 158 — уклоняющимся от работы или самовольно оставляющим ее, — не дают результатов. Тогда, несмотря на общее благосклонное отношение к рабочим, власть обращает против некоторых из них свое испытанное оружие — контроль над жилищем.
В 1924 году в массовом порядке осуществляется «расчистка» ведомственного жилья от «плохо работающих». В действие вступает уже упоминавшаяся инструкция от 13 января 1924 года 159. Ею закрепляется право выселения гражданина из занимаемого им жилья «при потере или отсутствии у выселяемого лица связи по работе или службе с учреждением или предприятием, за коим закреплено данное помещение» 160. Выселению подлежат все категории граждан, включая «социально близких»: «рабочие, служащие, безработные, имеющие право на пособие, инвалиды войны и труда, состоящие на социальном обеспечении, учащиеся, имеющие право на государственную стипендию, а равно члены другого профессионального союза, не объединяющего работников предприятия или учреждения, за коим прикреплено данное жилое помещение» 161.
Таким образом, «плохо трудящиеся» тоже поставлены перед выбором — продолжать отлынивать от работы и в результате оказаться уволенными и автоматически выселенными, или исправиться. Им тоже не оставляют лазеек, позволивших бы уволенным зацепиться за жилье. Инструкцией аннулируются почти все ранее принятые постановления, которыми устанавливались щадящие нормы при решении вопроса о выселении из закрепленных за предприятиями и учреждениями домов. Она отменяет соответствующие льготы работникам просвещения 162, командному составу Красной Армии и Флота, их семьям, семьям красноармейцев, ответственным работникам военно-административного ведомства 163, войскам ГПУ и милиции, инженерно-техническим работникам 164, рабочим и служащим железнодорожного и водного транспорта 165, инженерно-техническим работникам166, научным работникам167, врачам (п. 2 циркуляра НКВД от 17 декабря 1921 года, № 527) и др.168 Правда, для тех, кого, говоря современным языком, можно назвать представителями силовых ведомств (армия, ГПУ, милиция), и для их семей льготные условия выселения частично сохраняются 169: инструкция оставляет в силе положения о льготах, изложенные в ст. 2 постановления СНК от 6 сентября 1922 года 170. Но это уже иной, не столь благоприятствующий режим поблажек. Также в инструкции присутствует пункт, который исчезнет в заменившем ее декрете 1926 года: «выселение в административном порядке лиц, произведших капитальный ремонт занимаемого помещения за свой счет... допускается лишь при условии предоставления другого годного для жилья помещения» 171.
Инструкция предусматривает две способа выселения граждан из занимаемых ими помещений: в судебном и в административном порядке. Выселение по суду может производиться на следующих основаниях: «а) необходимость производства капитального ремонта помещения; б) неплатеж квартирной платы 172; в) хищническое отношение к жилищу 173; г) занятие жилого помещения без разрешения жилищного отдела или домоуправления и без соблюдения существующих на сей предмет правил» 174. Административное выселение осуществляется на единственном основании: «потере или отсутствии у выселяемого лица связи по работе или службе с учреждением или предприятием, за коим закреплено данное помещение» 175.
После принятия инструкции власть распространяет установленный в ней порядок выселения на помещения, сдаваемые посуточно176, на проживающих в общежитиях и интернатах при учебных заведениях 177 и т. д. Она последовательно и неуклонно пополняет свой арсенал способов принуждения к труду через жилье, отчасти даже отказываясь от дифференцированного подхода к разным социальным объектам принуждения. По существу, она сохраняет лишь два различия между «социально близкими» 178 и «социально чуждыми»: первых она выселяет в месячный срок, но при выселении их из ведомствен- ных домов обязывает предоставлять им новое жилье местные власти; вторых изгоняет в недельный срок без права на вселение в любое другое жилое помещение 179. Иными словами, жилищная политика, когда она обращена на «социально близких», еще в значительной мере «воспитующая», тогда как по отношению к «социально чуждым элементам» — однозначно дискриминационная и карательная. Владельцев предприятий и денежных капиталов, торговцев, подрядчиков, посредников, инженеров, врачей и иной медперсонал, всех лиц так называемых свободных профессий, источник существования которых — оказание услуг специального умственного труда, но не в качестве наемных работников на срок, а по существующему или предполагаемому соглашению за отдельные работы (юристы, литераторы, художники и т. п.), а также кустарей и ремесленников 180 власть выселяет без всяких оговорок и компенсаций.
В 1925 году в целой серии постановлений власть предписывает ведомствам очистить закрепленные за ними дома от всех «чужих» с последующим вселением «своих» 181. Например, в постановлении ВЦИК и СНК «О выселении посторонних лиц из помещений, состоящих в ведении Народного Комиссариата Путей Сообщения Союза СССР» 182 предписывается «предоставить органам Народного Комиссариата Путей Сообщения право выселения в административном порядке лиц, не состоящих на службе в НКПС, его местных органах, а также на железных дорогах из всех состоящих в ведении НКПС и его органов помещений, находящихся на земельных участках, непосредственно прилегающих к железнодорожным и водным путям... без обязательного предоставления выселяемым... иных жилых помещений» 183.
Формируя ведомственно-государственную собственность на жилище, власть оказывается перед необходимостью дать строгое законодательное определение домам, закрепленным за администрацией предприятий и учреждений. Это происходит 4 мая 1925 года, когда ВЦИК и СНК РСФСР принимают Декрет «О закрепленных домах» 184. В нем указано: «Считать закрепленными за предприятиями и учреждениями следующие категории домов: а) Дома, закрепленные постановлениями центральной или местной власти до 1-го января 1924 г.; б) Дома специального назначения, как-то: школы, больницы, воинские казармы, банки; в) Дома, находящиеся на территории функционирующих фабрик и заводов» 185. И добавлено: «В целях сохранения домовладений на учреждения и предприятия, за коими таковые закреплены, возлагается ответственность за сохранность таковых от разрушения по ст. 129 Уголовного Кодекса» 186.
В 1926 году на высшем руководящем уровне было признано, что дальнейшее развитие промышленного производства упирается в решение жилищных проблем 187, жилищное строительство объявлено одной из главнейших задач на ближайшую перспективу. Но уплотнять и выселять — куда дешевле, чем строить, и вскоре после принятия многообещающей директивы начинается очередная кампания по высвобождению уже наличного ведомственного жилья. В июне того же года выходит декрет ВЦИК и СНК 188, «объединяющий все изданные ранее постановления» по данному вопросу и подводящий своеобразный законодательный итог предшествующему этапу жилищной политики.
Декрет признает утратившими силу 15 постановлений, принятых в 1923–1925 годах 189, а также памятную инструкцию 1924 года, уже отменившую 23 постановления, приказа и циркуляра 1921–1923 годов (12 из них — прямо 190 и еще 11 — косвенно 191, по смыслу декре-та37ВЦИК и СНК «О признании ранее изданных постановлений, утративших силу или сохранивших таковую с изданием Инструкции ВЦИК и СНК о выселении граждан из занимаемых ими помещений» 192).
В июньском декрете мы находим следующие основные положения, которые в дальнейшем с незначительными изменениями будут повторены во всей череде властных решений по данному вопросу.
-
1. Органам народных комиссариатов дается право выселять из жилых помещений в административном порядке и во всякое время года лиц, не состоящих на службе в данном ведомстве или в находящихся в его ведении учреждениях и предприятиях 193.
-
2. Выселение осуществляется из помещений, находящихся в ведении народного комиссариата и его органов и расположенных на земельных участках, находящихся в полосе эксплуатации 194.
-
3. Выселение производится без обязательного представления со стороны народного комиссариата выселяемым лицам иных жилых помещений195.
-
4. Обязанность предоставления выселяемым лицам жилых помещений взамен изъятых возлагается на местные исполнительные комитеты 196; если же те не предоставят в течение месяца помещений выселяемым рабочим и служащим, комиссариат получает право выселять без предоставления помещений выселяемым 197.
-
5. Основанием к выселению служит потеря либо отсутствие связи у выселяемых лиц (по работе или по службе) с учреждением или
- предприятием, за которыми закреплено данное домовладение
-
6. Выселение лиц, принадлежащих к категориям «трудящихся», осуществляется в «мягком» режиме — в теплый период года (с 1 апреля по 1 ноября) 199, в месячный срок 200, с предоставлением транспортных средств для переезда и годной для жилья площади 201. К данной категории относятся: рабочие, служащие, военнослужащие, а также их семьи; инвалиды войны и труда и прочие лица, состоящие на социальном обеспечении, и их семьи; официально зарегистрированные безработные, получающих пособие по социальному страхованию, безработные, состоящие членами профсоюза, и безработные, занятых на общественных работах, организуемых биржей труда 202; учащиеся высших и средних учебных заведений и профессионально-технических школ; научные работники, зарегистрированные в установленном порядке; работники изобразительных искусств, приравниваемые, согласно специальному постановлению ВЦИК и СНК от 22 декабря 1925 года 203, к работникам по найму; кустари, не пользующееся наемным трудом; члены общества ссыльных политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
-
7. Выселение лиц, не относящихся к «трудящимся» 204, производится в «жестком» режиме — в семидневный срок, без предоставления транспортных средств и годной для жилья свободной площади205.
Декрет гласил: «Выселение в административном порядке граждан из занимаемых ими помещений допускается только из домов, перечисленных в настоящем постановлении, и только в порядке и при условиях, предусмотренных настоящим постановлением» 206. Что же это были за дома? Декрет давал право Народному комиссариату путей сообщения административно выселять лиц, не состоящих на службе в НКПС или в находящихся в его ведении учреждениях и предприятиях 207; военному ведомству — выселять из воинских казарм и казарменных сооружений лиц, не состоящих на службе в рядах РККА или в учреждениях Народного комиссариата по военным и морским делам 208; Тимирязевской сельхозакадемии — лиц, потерявших с ней связь по работе 209; народным комиссариатам — посторонних лиц из всех занимаемых ими домов210; ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР — лиц, не имеющих прямого отношения к их работе из принадлежащих им домов 211; Народному комиссариату иностранных дел — из домов специального назначения (школ, музеев, дворцов труда, банков, и т. д.), выделенных ему для размещения иностранных миссий и представительств 212; Народному комиссариату земледелия — из общежитий при находящихся в его ведении переселенческих пунктов 213. «Выселение всех посторонних лиц, без предо- ставления выселяемым годной для жилья свободной площади» должно было производиться «из помещений в гостиницах, сдаваемых посуточно; из помещений, предназначенных для проживания лиц административного персонала и надзора мест заключения; из общежитий строевого состава милиции; из муниципальных даче-владений; из находящихся на территории лесных дач помещений, специально предназначенных для проживания лесной администрации и стражи, а также из советских хозяйств; из домов, закрепленных под общежития для престарелых революционеров, оказавших исключительные заслуги своей революционной деятельностью» 214. «Из помещений в интернатах и студенческих общежитиях подлежали выселению лица, окончившие курс обучения или прекратившие учебу, а также их семьи» 215.
Чтобы изъять излишки жилой площади, так необходимые для размещения переселяемых из ведомственного жилища, помимо «силовых» (административных) мер используются и меры финансового давления. Так, в декрете 216, принятом через полгода после инструкции 1924 года, местным исполнительным комитетам предписывается с «излишков жилой площади в муниципализированных и национализированных домах» оплату взимать «в тройном размере» 217.
После принятия инструкции, тем более — декрета «Об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений», начинает происходить то, что и должно происходить, когда во властных распоряжениях не предусмотрены и не прописаны все возможные последствия их исполнения.
В частности, происходит стихийное и принудительное уплотнение. Осуществляют его местные органы, на которые постановлениями возложена обязанность предоставления жилья лицам «трудящихся» категорий, выселяемым из ведомственных домов. Домоуправления начинают принуждать жильцов, имеющих излишки жилой площади, устанавливать внутриквартирные перегородки с последующим вселением в образовавшиеся комнатушки новых жильцов. У тех, у кого есть излишки жилой площади в виде отдельных комнат, эти комнаты изымаются и заселяются ведомственными «изгнанниками». Исполкомы пытаются овладеть излишками жилой площади в домах жилищно-арендных и жилищных кооперативных товариществ (принудительно разгораживают комнаты для уплотнения, прописывают переселенцев), пытаются посягать даже на те дома, на которые заключены договоры о праве застройки218. То же самое происходит и внутри домов, закрепленных за предприятиями и учреждениями, — здесь в пределах дома также происходят переселения, уплотнения, изъятия излишков.
Все это приобретает настолько массовый характер, что не может остаться незамеченным. Власть вынуждена реагировать на действия, идущие вразрез с ранее принятыми законами. Появляется специальный декрет «Об ограничении принудительных уплотнений и переселений в квартирах» 219. Он замечателен тем, что задним числом легализует нарушения советского жилищного законодательства.
В самом деле, хотя в первом же пункте постановления домоуправлениям запрещается самовольно «обязывать граждан устанавливать внутрикомнатные перегородки или производить иные перепланировки квартир для изъятия имеющихся у жильцов внут-рикомнатных излишков площади» 220, далее то же самое разрешается — только в судебном порядке и в двух оговоренных случаях: когда у съемщика жилого помещения имеется «излишняя непроходная» комната и при наличии у него комнаты проходной, но такой конфигурации, что ее, благодаря перепланировке, можно превратить в непроходную. Соответственно домоуправление может требовать через суд изъятия «излишней непроходной» комнаты 221, а также получает право превращать — опять-таки по решению суда и при наличии «хозяйственно-технической возможности» — проходные комнаты в непроходные 222 и под этим предлогом выкраивать излишки жилой площади.
В домах же, закрепленных за государственными и приравненными к ним учреждениями и предприятиями, разрешается производить принудительное уплотнение и переселение жильцов в пределах дома — дабы использовать излишки жилой площади теми жильцами, которые не имеют жилищно-санитарной нормы. Принудительное переселение и уплотнение в этих случаях производится органами милиции по заявлению руководящего органа того государственного учреждения, за которым закреплен дом 223.
Следует заметить, что настоящим постановлением власть официально покончила с практикой заселения в одну комнату посторонних лиц разного пола («при принудительном уплотнении и переселении в закрепленных домах не могут быть вселены в одну комнату лица разного пола, кроме супругов и детей моложе десяти лет» 224). Но это решение касалось «будущих переселений», на уже существующие случаи совместного проживания в одной комнате разнополых посторонних лиц оно не распространялось. Впрочем, и при новых вселениях запрет этот плохо соблюдался, так что спустя восемь лет в инструкции НККХ и НКЮ № 38 от 29 января 1934 года «О порядке изъятия излишков жилой площади», опубликованной в пятом номере «Бюллетеня НККХ» 225, пришлось опять оговаривать запрет на вселение в одну комнату посторонних мужчин и женщин: «Не могут быть изъяты... отдельные комнаты, если в результате их изъятия пришлось бы поместить в одной комнате лиц разного пола (кроме супругов и детей до 10 лет) 226. В отношении посторонних лиц одного пола запрета не поступает, их продолжают селить вместе.
Инструкция 1924 развязала руки администрации предприятий и учреждений. Она настолько рьяно начинает выселять «посторонних», фактически выгоняя их на улицу, что в Москве действие инструкции приходится приостановить через полгода после ее принятия 227. Равным образом исполнение декрета 1926 года создает столь много проблем, связанных с потерей людьми места жительства в результате активных «выселенческих» действия администрации предприятий, что и тут власть вынуждена несколько отступить от собственных жестких правил. В 1927 году принимается специальное постановление по Москве и Московской области 228, в котором несколько смягчены требования декрета о «выселении без предоставления жилой пощади». В постановлении разъясняется, что «трудящиеся» могут быть «выселены без предоставления жилой площади лишь в самых крайних случаях, при наличии настоятельной необходимости в подлежащем освобождении помещении» 229. Комиссариатам, имеющим по нескольку прикрепленных к ним домов, дается право собирать путем переселения всех не связанных с комиссариатами лиц в одном или нескольких домовладениях 230. При составлении плана жилищного строительства на 1927/28 бюджетный год Моссовет обязывается предусмотреть необходимость размещения до 2 тыс. человек, выселяемых в административном порядке, и далее планировать «ежегодную потребность в жилой площади для лиц, подлежащих административному выселению... с тем, чтобы окончательно этот вопрос был разрешен в течение трех лет» 231.
Разумеется, эти поблажки не распространяются на «социально чуждых». В борьбе за квадратные метры власть по-прежнему решительно стоит на стороне «трудовых» элементов, решая их жилищные проблемы за счет элементов «нетрудовых». В постановлении «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях», принятом в конце 1927 года, «нетрудовым» элементам, живущим в муниципализированных и национализированных домах, запрещается занимать жилую площадь, превышающую установленные нормы 232, равно как и вселяться в муниципализированные и национализированные дома в порядке самоуплотнения, обмена или сдачи в поднаем 233. Только научные работники, как и художники, приравненные в правах к рабочим, пользуются правом на самоуплотнение и другими правами на жилую площадь, наравне с «трудовыми» элементами 234.
Кстати, в соответствии с этим постановлением городскими советами для облегчения обмена жильем образуются общегородские и районные «посреднические квартирные бюро» или «бюро обмена», хорошо знакомые всем советским людям 235. Естественно, обмен помещениями в различных домовладениях в пределах одного города контролируется соответствующими домоуправлениями и совершается исключительно с их согласия. Домоуправления имеют право отказывать в согласии на въезд в порядке обмена, например, в случае «явно выраженного спекулятивного характера сделки» 236. Также на домоуправления была возложена обязанность препятствовать «нетрудящимся» в обмене помещениями 237. Контроль за обменными операциями возлагался и на администрацию госпредприятий: въезд в порядке обмена в жилые дома, закрепленные за государственными учреждениями, был возможен лишь с ее разрешения.
Что касается «социально близких», в этот период власть даже некоторым образом берется за решение проблем тех из них, кто в случае выселения из ведомственных домов может остаться вообще без жилища. Делается это опосредовано, снова через начальство предприятий и учреждений: ему разрешается выдавать административно выселяемым рабочим и служащим краткосрочные кредиты, необходимые «для удовлетворения упомянутых лиц жилой площадью» 238. Рабочие и служащие госпредприятий могут обмениваться жилыми помещениями, находящимися в их использовании «как в пределах одного и того же города, так и в разных городах» 239. Отдельным съемщикам жилых помещений предоставляется право заселять в порядке самоуплотнения находящиеся в их пользовании излишки жилой площади в случае, если эти излишки превышают половину существующей санитарной нормы 240. Городские советы должны «бронировать в домах, непосредственно эксплоатируемых коммунальными органами, жилые помещения, освобождаемые в связи с отъездом рабочих и служащих в другие города, для размещения вновь прибывших по нарядам иногородней биржи труда или по соглашению с соответствующим предприятием рабочих и служащих государственных промышленных предприятий» 241.
Выше, когда речь шла о дискриминации «социально чуждых» категорий населения, могло сложиться впечатление, что, противопоставляя им «социально близких», власть не делала никаких различий между рабочими и служащими. В действительности такое различие соблюдалось. Ибо официальным оплотом власти, интересы которого она якобы выражала, считался рабочий класс, госслужащие располагались на втором месте.
Партия проводила целенаправленную политику по формированию «класса-гегемона», одновременно возвышающегося над другими и лояльного и за это пользующегося преимуществом во всем 242. Власть была кровно заинтересована в том, чтобы в городском жилом фонде, который служил ей одним из основных рычагов воздействия на подданных, большинство проживающих были бы рабочими. Так, в 1930 году выходит специальный циркуляр НКВД о квоте для рабочих при заселении в новые дома:
«Партия и правительство прилагают значительные усилия для улучшения жилищных условий рабочего населения... Однако материалы с мест о заселении жилой площади муниципального строительства 1929 г. свидетельствуют о том, что директива правительства о закреплении за рабочими не менее 75% всей вновь выстроенной жилой площади в большинстве городов не выполняется. В среднем по РСФСР рабочим отведено для заселения в муниципальных домах нового строительства около 52,7%. В ряде городов площадь, предоставленная рабочим, снижается даже до 30% и ниже» 243.
Аналогичная ситуация сложилась и в старых домах муниципального фонда. НКВД требует «устранить подобные явления, возлагая ответственность за это на исполнительные комитеты и городские советы» 244.
Будучи настоящим властным ресурсом, жилище должно было находиться под безраздельным контролем власти. Поэтому власть категорически запрещает какие бы то ни было формы приобретения, обмена и перераспределения жилья, кроме официально разрешенных ею, преследует и уголовно карает лиц, покушающихся на ее исключительные прерогативы — миловать и наказывать жилищем: «Лица, осужденные по ст. 98 УК за покупку жилой площади, выселяются вместе с семьями из занятых помещений по определению суда...» 245. Причем и здесь, карая за незаконную покупку жилплощади, она делает различия между «близкими» и «чуждыми»: «трудящиеся», осужденные за покупку жилой площади, выселяются вместе с семь- ями из занятых ими помещений, но в месячный срок, «нетрудящие-ся» — в недельный» 246.
Претендующая на тотальность система принуждения никогда не достигает своего идеала — полной управляемости жизнью. Более того, своими действиями она сама создает непредвидимые последствия, новые, не предусмотренные ею ситуации, либо возрождает старые, казалось бы, уже отрегулированные и изжитые. В результате власть предержащим вновь и вновь приходится возвращаться к «пройденному», издавать новые законы и постановления на старую тему. Жилищная политика советской власти — яркая тому иллюстрация. Каждый год власть вводила ограничения, от которых вскоре частично отступала, — с тем, чтобы в следующем году сделать их более жесткими, чем в в предыдущем. В колебаниях этого маятника тенденция к ужесточению контроля над жильем, к превращению его во все более грозное и неумолимое орудие принуждения к труду в длительной временной перспективе несомненно усиливалась.
В 1927 году маятник в очередной раз качнулся в сторону ограничения. Поскольку выселение граждан из занимаемых ими помещений без предоставления им жилья сопровождалось, как и прежде, массовыми самовольными занятиями людьми, которым негде жить, помещений в домах самого различного типа, власть отвечает на это постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР «Об урегулировании права пользования жилой площадью и о мерах борьбы с самоуправным занятием помещений в муниципальных и национализированных домах, а также в помещениях, отчисленных в коммунальный жилищный фонд» 247 и СНК РСФСР «О мероприятиях по жилищному хозяйству в городских поселениях» 248. В первом из них законодательно фиксируются случаи, при которых (и только при которых) граждане приобретают право на занятие жилой площади: с согласия надлежащих домоуправлений; в порядке самоуплотнения отдельных съемщиков и обмена помещениями; по ордерам коммунального отдела 249. Члены семей, живущие совместно с гражданами, получившими в указанных выше случаях право на занятие жилой площади (супруг и находящиеся на иждивении лица), также получают право на занятие жилой площади 250. Все остальные случаи занятия жилой площади объявляются незаконными.
Власть стремится максимально сузить те пределы, в рамках которых владение жилищем осуществляется на законных основаниях. Если в первые годы после революции рабочие, поступившие работать на предприятие и получившие от него жилье, сразу становились его «законными владельцами», то теперь для этого они должны проработать на предприятии не менее двух лет 251. Раньше, уволившись с работы, они продолжали жить на площади, предоставленной им их бывшим местом работы (это обстоятельство, напомним, было большой проблемой для власти в 1921–1924 годах, так как мешало формированию стабильных «трудо-бытовых» коллективов), — теперь при увольнении они сразу и неизбежно теряют право на проживание в ведомственных домах. Те же их них, кто поселен в таких домах на срок действия трудового договора, вообще не приобретают самостоятельного права на занятие жилой площади» 252 и обязаны по истечении срока договора незамедлительно освободить жилую площадь. Студенты и учащиеся поселяются в общежитиях лишь на время, без всяких прав на жилую площадь 253.
Единственное (и небезусловное) исключение — командный состав Красной Армии и Флота, их семьи, семьи красноармейцев, ответственные работники военно-административного ведомства, служащие войск ГПУ и милиции, а также члены семей лиц, служащих в означенных войсках по мобилизации. Они обладают некоторыми правами на жилую площадь — но лишь постольку, поскольку выселять их следует на льготных условиях: не сразу и с обязательным предоставлением другой жилплощади 254. Впрочем, пройдет немного времени, и их права будут сильно «откорректированы»: в случае прекращения служебной деятельности им придется освобождать ведомственные жилые помещения на тех же условиях, на которых выселяются все прочие граждане 255.
В преддверии поворота от нэпа к социализму начинается очередной этап «закручивания гаек» в смысле трудовой дисциплины и производительности труда. Стратегическая линия партии в этот момент — ускоренная индустриализация. Для ее успеха необходимо повысить управляемость производством. И власть ужесточает «внутреннюю дисциплину», борется за «твердый порядок», в соответствующем постановлении от 5 сентября 1929 года еще раз подчеркивает, что «возможно и необходимо в настоящее время сосредоточить в руках руководителей фабрик и заводов все нити управления хозяйственной жизнью предприятий» 256.
Чтобы добиться триединой цели «производительность — дисциплина — управляемость», управляющие применяют разнобразные методы воздействия на управляемых. Тут и взыскания, и лишение премиальных, и индивидуальная и коллективная воспитательная работа, и товарищеский суд. И наоборот — путевки, премии, чество- вания на собраниях, похвальные грамоты, правительственные награды... Этих «кнутов и пряников» достаточно для многих, но не для всех. Только жилище остается средством, всеохватным по воздействию. «Лодырь», «прогульщик» и «летун» — натуры грубые и на редкость выносливые, они вполне могут обойтись и без билета в театр, и без премиального пайка, и без подарка от заводского начальства к революционному празднику. Но и для них жилище, пусть самое непритязательное, — необходимое условие выживания, самой их «вольности». Власть это знает и всегда знала — и с новой силой обращает свое поистине убойное орудие против непослушных. С началом первой пятилетки выходит новая серия постановлений о выселении из ведомственного жилья; в них наркоматам и ведомствам предоставляется право выселения в течение года в административном порядке граждан из занимаемых ими помещений из всех домов, закрепленных за данными ведомствами и наркоматами 257.
Как и прежде, самые суровые меры предпринимаются против «нетрудящихся». В апреле 1929 года принимается постановление об ограничении их проживания в муниципализированных и национализированных домах и о выселении из таких домов бывших домовладельцев 258. В документе подчеркивается: «в случае отказа подчиниться постановлению выселение произвести административным путем» 259. Постановления ЦИК и СНК СССР от 13 февраля, 17 августа, 7 сентября, 13 сентября 1931 года 260 воспроизводят одну и ту же формулировку: «Выселение лиц, принадлежащих к нетрудовым элементам, производится по истечении семи дней со дня объявления о выселении, без предоставления жилой площади».
Впрочем, здесь скорее дает о себе знать неутолимая ненависть советского государства к бывшим «эксплоататорам», чем расчет крупно поживиться за счет жилья «социально чуждых». Сколько уж их уплотняли, ограничивали, поражали в правах, выселяли! Возможно, какой-то их части и удавалось все послереволюционные годы сохранять с помощью неформальных связей с высшими советскими чинами или элементарных взяток часть прежнего жилья; но вряд ли его окончательное изъятие серьезно снизило бы остроту жилищной проблемы в СССР.
Куда более важным для власти в начале 1930-х годов становится другой адресат принудительной жилищной политики. Столкнувшись с массовым нежеланием «социально близких» трудиться исключительно самоотверженно, власть применяет к ним воспитательные средства из арсенала жилищной политики, по жесткости практичес- ки не уступающие карательным мерам против «социально чуждых». Благо тому способствует ведомственная структура организации народного хозяйства и, как следствие, деятельности и жизни людей; в годы индустриализации она становится всепроникающей формой руководящего воздействия начальства на работающее население.
Возьмем постановление ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1931 года 261, определяющее, как следует поступать с работниками, уволенными с транспорта: «Органам Народного комиссариата путей сообщения и Народного комиссариата водного транспорта предоставляется право выселять в административном порядке во всякое время года из помещений, принадлежащих транспорту, лиц, не имеющих отношение к транспорту или потерявших с ним связь». То же самое можно найти в постановлении от 17 августа 1931 года («Органам Народного Комиссариата по военным и морским делам предоставляется право выселять в административном порядке во всякое время года из принадлежащих им домов всех лиц, не состоящих в рядах рабоче-крестьянской Красной армии» 262) или в постановлении от 13 сентября: («Органам ВСНХ и высших советов народного хозяйства союзных республик предоставляется право выселять в административном порядке во всякое время года из помещений, находящихся на территории предприятий государственной промышленности, имеющей оборонное значение, лиц, не имеющих отношения к данному предприятию или потерявших с ним связь, вместе с членами семей и иждивенцами» 263). В следующем году формула постановления о выселении уволенных транспортников распространяется на работников народного образования 264, главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и хозяйственных организаций и их заместителей 265, в 1935 году — на врачей и т. д.
Для того, чтобы еще более плотно связать две, обычно совершенно автономные сферы существования человека — по месту проживания и по месту производственной деятельности, — и поставить одну в зависимость от другой, власть закрепляет часть муниципального жилья за предприятиями и учреждениями266, создавая тем самым, помимо государственной, ведомственно-государственную форму собственности на строения. С той же целью она возвращает ведомствам жилые дома, ранее переданные исполкомам поселковых советов267. Таким путем она укорачивает поводок, сокращает «дистанцию командного окрика», резко усиливает управленческое воздействие «красных директоров» на подчиненных. Используя угрозу лишения жилья, администрации легче принудить работника к труду на навязываемых ему условиях, к «должному» поведению в рамках трудового коллектива. 4 декабря 1932 года выходит постановление ЦИК и СНК СССР, в котором прямо указывается, что принимается оно для усиления управленческого воздействия администрации на подчиненных. Так и сформулировано: «...в целях... усиления власти директора на предприятии». И открыто признается, что одно из средств усиления — жилище: «при увольнении работника с предприятия лишать его... права пользования выданными ему данным заводоуправлением, как работнику данного предприятия или учреждения, продовольственными и промтоварными карточками, а также права пользования квартирой в домах данного предприятия или учреждения» 268.
Волна выселений, не менее мощная, чем в 1926–1927 годах, прошла тогда по стране, основательно задев «социально близких». Изгоняемые на улицу пускаются на любые ухищрения для обретения хотя бы временного пристанища. Например, они прибывают на турбазы в качестве туристов и под разными предлогами «задерживаются» на них. Но власть не дремлет: циркуляр прокуратуры № 154 от 17 августа 1932 года требует выселять в административном порядке без предоставления жилплощади всех лиц, продолжающих пребывание на базах Общества пролетарского туризма и экскурсий сверх срока, установленного правилами или планами экскурсий269.
В 1933 году возможность лишения работника права пользования квартирой предоставляется руководству Рабоче-крестьянской милиции и исправительно-трудовых учреждений РСФСР270. В том же году выходит постановление, которое предписывает производить «выселение во всякое время года... посторонних лиц из помещений, предназначенных для проживания строевого состава пожарных команд коммунальных организаций» 271. Затем и администрация Главэнерго НКТяжпрома наделяется правом изгнания работника из квартир, находящихся на территории электрических станций, подстанций и теплоэлектроцентралей272, и такое же право выселения получает начальство, в чьем ведении находятся дома мельниц, элеваторов и мукомольно-крупяных предприятий 273. В 1935 году право выселять в административном порядке посторонних лиц и лиц, «утративших трудовую связь», получают Главное управление Северного морского пути и Народный комиссариат связи 274. Причем выселять можно вместе с семьями и иждивенцами. В 1937 году аналогичное право распространяется на дома, принадлежащие НКВД275. И во всех соответствующих постановлениях выселение лиц, утративших связь с предприятием, производится «независимо от того, будет ли предоставлена местным советом... другая площадь или нет».
Ведомственное жилье существует еще и в форме общежитий. Они также полностью находятся в ведении фабричной, заводской и учрежденческой администрации. Места в общежитиях закрепляются за людьми лишь на срок их работы на данном предприятии. Увольняясь, работник и его семья обязаны освободить жилье. Квартиры в общежитиях начальствующего состава военнослужащих закрепляются также не за людьми, а за должностями. Получил новую (более высокую) должность — получи новую (лучшую) квартиру. Утратил занимаемую должность — освободи занимаемую жилплощадь 276.
Сравнительно с постановлениями 1921–1926 годов о выселении из ведомственного жилья посторонних лиц постановления первой половины 30-х явно форсируют принудительно-карательную функцию, приданную государством жилищу. Теперь те, кто самовольно бросил работать или же был уволен администрацией предприятий, без всяких оговорок выставляются на улицу. Местным органам однозначно указано, что они не обязаны предоставлять жилую площадь тем выселяемым, которые прекратили работу на предприятии без согласия администрации или уволены за нарушения трудовой дисциплины. Кто не работает — тот не живет.
Кстати, во всех указанных постановлениях предусмотрен порядок принудительного выселения, которое производится милицией 277.
15 ноября 1932 года ЦИК и СНК СССР принимают постановление, направленное на борьбу с такой категорией «плохо трудящихся», как прогульщики. В нем в качестве основного средства устрашения также фигурирует жилье: «В случае хотя бы одного дня неявки на работу без уважительных причин работник подлежит увольнению с предприятия или учреждения с лишением его права пользования выданными ему, как работнику данного предприятия или учреждения, продовольственными и промтоварными карточками, а также с лишением права пользоваться квартирой, предоставленной ему в домах данного предприятия или учреждения» 278.
Жилище в руках власти все более становится средством борьбы с любым противодействием ей. В постановлении ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1933 года 279 наряду с «прогульщиками», четко определяемыми в качестве объекта управленческого воздействия, называется еще один, совершенно расплывчатый, адресат — «злостный дезорга- низатор производства». Под действие постановления подводятся не только те, кто плохо трудится, в частности, пропускает работу без уважительных причин, но и те, кто, возможно, очень хорошо и старательно работают, но чем-то недовольны, открыто и громогласно это недовольство высказывают и своими словами или иными проявлениями независимого характера способствуют, по мнению администрации, «дезорганизации». И их, и злостных прогульщиков администрация может выселить из ведомственных помещений «немедленно по их увольнении» 280.
Заключение
Выявление истинных целей жилищной политики власти — целей, зачастую трудноразличимых за риторикой официальных разъяснений, равно как и исследование средств, используемых властью для достижения этих целей, необходимы для лучшего понимания исторической ситуации, в которой находится общество в тот или иной период своего существования. В особенности они необходимы, когда мы имеем дело с обществом, подпадающим под всеобъемлющий контроль государства. Классическим примером такого общества является советское в период от Октябрьской революции до начала Великой Отечественной войны.
В то время (как, впрочем, и позже) жилищная политика служила советской власти высокоэффективным средством управления людьми, принуждения их к безальтернативным видам труда и политической лояльности. Жилище было превращено в элемент распределительной системы, власть им миловала и наказывала, инициировала с его помощью пространственные перемещения больших масс населения по территории страны, направляла миграционные потоки в нужную ей сторону. Власть стремилась «поглотить» все формы жизнедеятельности управляемых, люди брались им в расчет только как ресурс и в этом смысле — только как часть проблем управления и принудительного регулирования. Коммунальное жилище удачно отвечало ресурсно-управленческому подходу к «человеческому материалу». Им уничтожались традиционные институциональные формы жизни, прямо или косвенно способствовавшие сохранению человеком своей автономности от государства. Дефицит жилья и скученность коммунального проживания тоже были выгодны власти: ими создавался такой режим проживания и повседневного быта, который был максимально «прозрачен» для догляда и контроля за гражданами.
Жилищная политика в СССР в рассматриваемый период имеет две стороны: дискриминационную, обращаемую на «социальночуждые элементы», на «нетрудящихся», на «плохо трудящихся», на неконтролируемых мигрантов; и протекционистскую, охватывающую различные категории «социально близких» и привлекаемых специалистов-«попутчиков»: ученых, инженеров, врачей, агрономов, художников, писателей и т. п. Однако в вопросах принуждения к труду жилище служит средством воздействия на все без исключения социальные группы. Советская власть планомерно и последовательно отлаживает систему контроля над жизнью людей посредством жилища. Принимая постановления, лишающие человека возможности иметь собственное суверенное пространство обитания, она превращает жилище в фактор, определяющий сознание и поведение человека, степень его зависимости от государства.
Список литературы Власть и жилище (жилищная политика в СССР в 1917-1940 годах)
- Ленин В. И. Поли собр. соч. Изд. 5-е. Т. 54. М., Изд-во политической лит-ры, 1965. С. 380.
- Паперный В. Культура «Два». М., Новое литературное обозрение, 1996.
- Говоренкова Т. М., Славин Д. А. Жилищно-арендная кооперация. Опыт Новой экономической политики и возможность применения его в современной России. М., 2002. Рукопись
- Выгодский Л. Жилищный вопрос в отражении всесоюзной переписи 1926 г.//Экономическое обозрение, 1928. № 9. С. 138
- Из истории советской архитектуры. 1917-1925 гг. Документы и материалы. Отв. ред. К. Н. Афанасьев, сост., автор статей и примечаний В. Э. Хазанова. М., Изд-во АН СССР, 1963. С. 78-79.
- Вегман Г. Укрупненное жилье//Современная архитектура, 1927. № 1. С. 12.
- Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. М., Наука, 1980. С. 218.
- Левина Н. Б. Повседневная жизнь советского народа: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., Журнал «Нева» -Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1999. С. 164.
- Горин С. Формирование и реализация социального заказа на массовое, доступное жилище в Москве 20-30-х гг.//Архитектура. Строительство. Дизайн, 2001. № 03 (25). С. 9.
- Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М., Центрполиграф, 2000. С. 44.
- Хан-Магомедов С. О. Роль русского авангарда в развитии архитектуры XX века//Архитектура и строительство Москвы, 2001. № 2-3.
- Лацис О. Перелом//Знамя, 1988. № 6. С. 159.
- Хоскинг Д. История Советского Союза 1917-1991 гг. М., Вагриус, 1994. С. 160.
- Гинзбург С. 3. О прошлом -для будущего. М., Политиздат, 1983. С. 46-47.
- Коткин С. Жилище и субъективный характер его распределения в сталинскую эпоху//Жилище в России: век XX. Архитектура и социальная история. Монографический сборник. М., Три квадрата, 2001
- Бородкин Л. И., Максимов С. В. Крестьянские миграции в России/СССР в первой четверти XX века (Макроанализ структуры миграционных потоков)//Отечественная история, 1993. № 5. С. 125.
- Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., РОСПЭН, 1999. С. 126-127.
- Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма М., Политиздат, 1989. С. 452.
- Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1927 г. «О порядке выселения частных лиц, самовольно занявших торгово-промышленные и складочные помещения»//Действующее жилищное законодательство. Систематический сборник законов СССР и РСФСР, ведомственных постановлений, разъяснений Верховного Суда и постановлений Московского Совета. С приложением указателей -систематического, хронологического и алфавитно-предметного. Составлен бригадой Московского Городского Суда: Берзин А. М., Ястржембский С. Б., Гинзбург С. М. М., Издание Московского Городского Суда, 1937. С. 310.