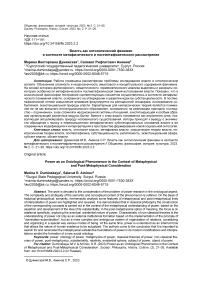Власть как онтологический феномен в контексте метафизического и постметафизического рассмотрения
Автор: Думинская Марина Викторовна, Аминов Салават Рифгатович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена рассмотрению проблемы исследования власти в онтологическом аспекте. Обозначена сложность и неоднозначность смыслового и концептуального содержания феномена. На основе историко-философского, семантического, герменевтического анализа выделены и раскрыты некоторые особенности метафизической и постметафизической линий истолкования власти. Показано, что в классической философии построение соответствующих концептов осуществлялось в контексте метафизического понимания власти, основанного на утверждении и развитии идеи ее субстанциальности. В постметафизической оптике осмысления внимание фокусируется на реляционной специфике, исследовании событийной, экзистенциальной природы власти. Характерным для неклассических теорий является понимание ее не как внешнего институционального образования, основанного на реализации принципа «господство - подчинение», а как сложной и неоднозначной системы отношений, конституирующей и особым образом организующей различные модусы бытия. Вместе с этим власть понимается как внутренняя сила, позволяющая актуализировать природу человеческого существования. Авторы приходят к выводу о значимости обращения к поиску и переосмыслению метафизических субстанциональных оснований власти в ее современных модификациях и интерпретациях в пространстве формирования новой социальной онтологии.
Власть, онтология власти, метафизика власти, классические теории власти, неклассические теории власти, постметафизика, субстанциальность, релятивность, экзистенциальная сфера, субъект власти, объект власти
Короткий адрес: https://sciup.org/149142470
IDR: 149142470 | УДК: 111+141 | DOI: 10.24158/fik.2023.2.2
Текст научной статьи Власть как онтологический феномен в контексте метафизического и постметафизического рассмотрения
1,2Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия , ,
, ;
Исследование феномена власти является одной из центральных проблем в области социально-гуманитарного знания. Дискуссионный характер постановки и обсуждения вопросов, связанных с осмыслением природы, сущности, модусов власти как способа человеческого существования не утрачивает своей актуальности в настоящее время в эпоху нестабильности и обострения социально-политической ситуации в мире. Проблематика власти раскрывается в сфере социологии, политологии, культурологии, кратологии как «науки о власти», которая продолжает свое формирование в современном поле научного и философского дискурсов, включая и анализируя в пределах своего пространства теории, исследовательские программы, которые так или иначе раскрывают различные аспекты представлений о власти, в частности, политические, правовые, социальные сегменты ее проявления (Халипов, 2005). Как справедливо отмечает Э.Г. Носков, «в информационном обществе власть приобретает новые, доселе неизвестные формы, – она оказывается воистину вездесущей»1. В то же время следует признать, что построение частных теоретических моделей, отражающих конкретные формы проявления власти представляют собой лишь различные манифестации ее онтологической природы, которые отражают спектр мировоззренческого позиционирования цивилизационных обществ.
В ХХ веке интерес к исследованию кратологической проблематики стремительно возрос. К числу специальных работ, посвященных ей, следует отнести труды П. Бурдье (1993), Ж. Пфеф-фера (2014), С. Клэга (Clegg, 1993), Ф. Ницше (1994), Э. Тоффлера (2001), М. Хайдеггера (1991) и многих других. В отечественной традиции проблематика власти достаточно широко представлена в области культурологических, социологических исследований, креативной индустрии и др. Определенные аспекты понимания власти как экзистенциально-онтологического феномена освещены в работах А.Н. Ковачева (2007), Т.Ф. Маршала (2006), Э.Г. Носкова (2008), М.А. Корецкой (2007), И.А. Халипова (2008) и др. В частности, М.А. Корецкая одну из причин привилегированности концепта власти в поле современной философии связывает с «симптомом кризиса онтологии, с потребностью перестать делать бытие предметом мысли, перестать вообще мыслить предметно, в субъект-объектной структуре» (Корецкая, 2007: 10). Действительно, в повседневной жизни человек не обращается к вопросу, что стоит за конкретными формами проявления власти, а зачастую стремится к обладанию ею как неким ресурсом, достоянием, средством, которое может обеспечить достижение желаемого. Общество возводит в ранг культа потребление, оказываясь во власти своих желаний и потребностей. Людей объединяет привязанность к системе вещей, обеспечивающих чувство комфортности и удовлетворенности жизнью. Человек исполняет роль субъекта и объекта власти потребления, позволяя себе быть зависимым от своих потребностей. «Реклама любой отдельной вещи уже вписана в эти бесспорные ценности и поэтому поддерживает ощущение того, что общество заботится о человеке, предлагая ему возможные постепенные улучшения мира вещей. Различные варианты жилья и мебели, увлекательные поездки, приятное времяпрепровождение – так создается плотный, без зазоров, мир повседневности, который заботливо строится обществом и формирует общую основу взаимодействия людей» (Марков, 2001). С другой стороны, представление о власти формируется на основе восприятия и оценки отношений, складывающихся в процессе взаимодействия человека с различными институтами управления.
Целью данной работы является прояснение вопроса о том, что оказывается в центре внимания онтологически ориентированного исследования власти и в чем обнаруживается трансформация оптик рассмотрения этого вопроса со сменой парадигм классической и неклассической философии. Прежде всего, следует отметить, что предметом философской рефлексии, в частности, обращенной к онтологическому плану рассмотрения, является сама идея власти, ее базовые принципы, формы, механизмы функционирования, абстрагированные от конкретных форм проявления, отражающих какое-то определенное содержание (правовое, социальное, политическое и др.) власти как специфического явления. Именно на основе исходного сущностного истолкования онтологической природы власти, проявляемой в событиях человеческого и социокультурного бытия, открываются особые «оптики» как структуры видения, производящие смыслы и знание (Фуко, 1996). Выстраивается множество перспектив видения, не претендующих на трансляцию объективной и однозначной истины, но при этом отражающих оптику, границы и возможности развития современной мысли в отношении изучения кратологической проблематики. Принципиальным в данном случае является вопрос, что есть власть сама по себе как идея, как общий принцип, лежащий в основе организации особого способа бытия человека и мира. В данном случае речь идет об определении метафизического значения власти, в постановке и поиске ответа на вопрос, что есть власть как таковая.
В контексте онтологического рассмотрения следует обратить внимание на сложность и неоднозначность понятия «власть», что обуславливает многомерность его концептуального содержания и смысла. Семантический анализ термина «власть» показывает различие цепочек его значения в русском и европейских языках, что изначально приводит к расслоению смыслов. В частности, в немецком языке четко прослеживается их разделение. Использование слова mach раскрывает власть в смысле силы, мощи, могущества (аналогичный смысл несут слова power и pouvoir в английском и французском языках)1. В данном значении онтологический смысл указанных лексем отражает возможность раскрытия неограниченного потенциала в действии, дающего человеку могущество; подчеркивается динамичный, процессуальный характер проявления власти. Другое слово – gewalt – в немецком языке употребляется для передачи смысла власти как навязывания, насилия, подавления и т. п.
В философии Ф. Ницше власть выступает в качестве основного концепта, вбирающего дво-якость представленных смыслов: «… власть понимается то как креативная мощь, которая только и способна действительно освободить мысль и вернуть ее к жизни, то как репрессивная машина господства, ориентированная на подавление и всюду внедряющая идеологический контроль»2.
Как отмечает М.А. Корецкая, в русском языке «… более явственно представлен оттенок не могущества (способности к действию), а обладания, так что русский “привкус”, скажем, “воли к власти” заметно иной, чем европейский» (Корецкая, 2007).
Далее следует зафиксировать еще одну важную онтологическую задачу – создание целостной картины представления о власти, которая выстраивается посредством конституирования возможностных проекций, модусов власти и их последующего переосмысления в интерпретационном поле философского дискурса. Анализ различных оптик видения позволяет эксплицировать взаимосвязь различных концепций и логику трансформации представлений о власти в развитии философской мысли, зафиксировать основные мыслительные стратегии на современном этапе ее развития.
В контексте вышесказанного следует выделить ряд особенностей, характерных для метафизической и постметафизической оптик понимания власти. Первая начинает складываться в эпоху античности. Власть эксплицируется через взаимосвязь с такими традиционными онтологическими понятиями, как фюзис, архэ, логос, пайдейя и др. В античной философии проявление власти обнаруживается в сфере природы, которое Хайдеггер определяет как «самообразующе-еся владычество сущего» (Хайдеггер, 2013). Природа в космологическом мировоззрении предстает как некая всепорождающая сила, самодовлеющая мощь, которая стоит над жизнью и смертью всего сущего. Это царствующее субстанциальное первоначало есть архэ (αρχη), выступающее в качестве Истины и внутреннего закона Логоса (λογοσ), упорядочивающего и подчиняющего универсум, мыслимый в его нерасчлененной целостности. Первичность и безграничность власти естественных законов природы лежит в основании всего сущего. Собственно, уже в космогоническом мировоззрении власть открывается как неотъемлемый атрибут бытия.
Однако с выделением особой значимости человеческой природы и деятельности единство «фюзиса» раскалывается. Человек, открывая сущее в логосе, извлекая его из непознаваемости, выступает в качестве властвующего субъекта. Вставая на путь познания, он переходит из сферы природы в сферу общества, включается во всеобщую социальную связь, устанавливая в ней собственные законы, позиционируя себя в качестве продолжения космогонической силы. Проявление власти познающего субъекта выражается в его способности преобразовывать сущее, самого себя и социальный мир в соответствии с представлениями о мировом порядке и соразмерности бытия. Космогонический порядок, требующий от человека подчинения законам природы, уступил свое первенство законам, установленным субъектом, обладающим разумом. Антропологическое мировоззрение пробудило стремление человеческой природы к власти-познанию, к изменению существующего порядка вещей, а также к установлению собственного порядка, который распространялся не только на социальную, но и на политическую сферу жизни человека (Исаев, 1998: 16–18).
Метафизическая линия интерпретации власти в классической онтологии представлена в рационально-реалистических теориях. В них она рассматривается как форма бытия рационально действующего субъекта, наделяющего смыслом все существующее и тем самым утверждающего собственное превосходство и господство над другими, миром природным и социальным. При этом распространяется идея доминирования одной из конкретных форм проявления власти (государственной, политической) над другой, посредством которой становится возможной реализация функции господства. Власть в этом смысле определяется источником проявления воли и влияния ее субъекта, что налагает ограничения и обязательства на других, выступающих в качестве объектов. В гегелевской интерпретации власти демонстрируется власть абсолютного разума, а мир представляет собой арену для проявления его могущества (Глюксман, 2006). Такое понимание природы власти становится зоной порождения различного рода конфликтов, усиления дифференциации и подавления, что в свою очередь вызывает к себе весьма критическое и негативное отношение.
Следует отметить, что в метафизическом плане рассмотрения власть раскрывается прежде всего в своей субстанциальной характеристике. Архэ власти в классической философии определялось в качестве всеобобщающей субстанции. Предполагалось, что субъекту власти имманентно присущ ум, сила, воля, т.е. те качества, которые он способен проявлять в отношении другого человека (объекта власти) с целью достижения желаемого результата (Гоббс, 2001). Так, например, Гоббс наделяет власть автономным статусом, требующим от человека признания и подчинения ей как самоценной субстанции. Власть наделяет человека могуществом, дает ему возможность осуществлять свою индивидуальную волю. Сила его волеизъявления организует взаимодействие людей, определяет смысл, целесообразность и целенаправленность социального мироустройства. Согласно Гоббсу, заключение общественного договора способно наложить ограничение на использование силы индивидуальной власти. Отчуждение власти от «естественного человека» и наделение ею государства, по мнению мыслителя, рассматривается как способ достижения всеобщего блага, основанного на рациональном управлении (Гоббс, 2001). Однако Гоббс не отказывается от идеи сосредоточения власти у одного человека, полагая, что в рамках «общественного договора» он, выступая в качестве сознательного и правомочного представителя института права и закона, становится выразителем не индивидуальной, а всеобщей, единой воли граждан. В свою очередь Ж.-Ж. Руссо в качестве субъекта власти предлагает рассматривать не конкретного человека, а народную ассоциацию, выражающую общую волю народа (Руссо, 1998). Проявлением свободы каждого человека в таком случае является его свободное волеизъявление в отчуждении права претендовать на индивидуальную власть в пользу утверждения «верховной власти», наделенной законодательной силой – «коллективная судья народа» (Жижек, 1999).
С преодолением метафизики в неклассической философии выстраивается иная оптика видения власти – постметафизическая. Следует отметить, что выход за рамки предшествующего типа мышления оказывается достаточно сложным, поскольку властные отношения буквально пронизывают бытие, они вплетены в его структуру, отражая тотальный характер власти. В результате неклассические теории предлагают истолкование данного феномена в качественно ином видении. Далее зафиксируем внимание на некоторых моментах, отражающих его специфику. В неклассических концепциях предложен принципиально новый подход к осмыслению феномена власти, ориентированный на отрицание гегелевской модели построения отношений «раба» и «господина», представлений о власти как о безличном принципе и о субъекте власти как о его суверенном носителе. На первый план выступает не субстанциальный, а реляционный характер власти, который выражается в непосредственной взаимосвязи субъекта и объекта власти, установлении между ними особой системы отношений. Исходным в данном случае выступает обоснование тезиса о том, что власть сама по себе не обладает статусом существования, поскольку реальные ее проявления возможны только в системе взаимоотношения с Другим. Так, например, в философских воззрениях М. Фуко субъект власти задается в качестве своеобразного «сцепления» языковых и материальных знаков, существующих вне и помимо его сознания (Фуко, 1996). Однако объявить себя субъектом власти вовсе не означает им стать. Присвоение власти – это лишь иллюзия обладания ею. Напротив, для субъекта обнаруживается необходимость «… принять … правила подчинения, получить имя, место, время, память, способ поведения посредством других субъектов, отражением или эхом которых только и можно быть» (Подорога, 1989: 226–227). М. Фуко указывает на универсальность природы властных отношений, в которых субъект – это лишь точка приложения воздействия различных техник, раскрывающих его властный потенциал и особым образом производящих субъект власти (Фуко, 1996). Место власти С. Жижек определяет, как «пустое», которое может быть заполнено любым другим человеком (Жижек, 1999: 151) или другими отношениями, которые сама власть и организует, выстраивает. Полагаем, что такая позиция в оценке восприятия власти наиболее точно отражает реальное положение дел и в большей степени соответствует современной социально-политической реальности.
В реляционных концепциях исследуется специфика властных отношений, а также различные версии и механизмы взаимовлияния (French, Raven, 1959; Blau, 1964; Wrong, 1994 и др.). Раскрывается событийная природа власти как основание становления и развития конкретных форм бытия, исследуются взаимосвязи власти и знания, позволяющие урегулировать внутренние конфликты и противоречия, особым образом организовать социальное пространство. В этом плане о власти можно говорить, как об «онтологической структуре, которая воспроизводит новое единство, возникающее после разделения и распада, в рамках которого производится новая сборка реальности»1.
В постметафизических концептах власти, выраженных в трудах представителей неклассической философии (Делез, Гваттари, 1998; Луман, 2001; Жижек, 1999 и др.), власть несет в себе возможности, неограниченный потенциал, побуждающий к осуществлению, креативности, личностному осуществлению в событиях экзистенциального опыта человека, случающихся в повседневных практиках. Власть рассматривается не столько как внешнее институциональное образование, налагающее на человека запреты и обязательства, сколько как некая сила, способная актуализировать природу человеческого существования.
В современных исследованиях изменяются конфигурации онтологии. Переплетение огромных потоков информации и форм коммуникации, ускорение ритма жизни, усложнение институциональных форм власти неизбежно ведут к трансформации представлений о ее природе. Сегодня все ярче и настоятельнее звучит требование пересмотра вопроса о приоритетном статусе властной вертикальной иерархии, централизации функций управления, основанных на приказном и распорядительном характере построения властеотношений. В условиях формирования новой социальной онтологии замкнутость на классической трактовке власти оказывается нерелевантной «… коммуникативному хаосу в “пространстве потов”, ибо с помощью закрытых алгоритмических ходов и решений становится невозможно управлять непредвиденными и непредсказуемыми коммуникативными отношениями и связями» (Петрова, 2015).
Таким образом, в постметафизической перспективе развития представлений о власти вполне очевидна необходимость возвращения в постановке вопроса о поиске метафизического архэ власти, являемой в ее современных модификациях, которые уже давно вышли за рамки политического или какого-либо другого пространства. Власть сегодня предстает как способ человеческого бытия, которое приобретает экзистенциальный смысл, выражается в способности трансцендирования, реализации потенциальных личностных ресурсов. В этом плане значимой является разработка и реализация способов и технологий рефлексивного «пробуждения» человека, что становится проявлением экзистенциальной «заботы о себе». Ведь на уровне повседневного существования первичные онтологические смыслы не лежат на поверхности, они завуалированы и раскрываются только при условии «выхода» за пределы на новый уровень рефлексивного существования. Ответ на вопрос, что значит быть субъектом власти, требует от человека вопрошания о том, что есть власть как таковая. И в зависимости от того, какими смыслами наполнится содержание этого понятия, определяется специфика способа бытия и со-бытия рефлексирующего субъекта. Принятие экзистенциального статуса власти ставит перед человеком задачу проявления особого отношения прежде всего по отношению к самому себе, благодаря чему происходит его позиционирование и самореализация в мире в качестве самоценного экзистенциального субъекта власти, выдвигающего и устанавливающего требования к осуществлению собственной жизни как личностному свершению. Перспективы исследования власти в контексте онтологического постметафизического рассмотрения усматриваются в необходимости обращения к переосмыслению метафизических оснований власти в их классических интерпретациях. Важным, на наш взгляд, является акцентирование внимания на поиске субстанциального начала власти как способа бытия личности с учетом новых форм и модусов ее проявления, а также тех трансформаций, которые происходят в пространстве современного философского дискурса и формирования новой социальной онтологии.
Список литературы Власть как онтологический феномен в контексте метафизического и постметафизического рассмотрения
- Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 336 с.
- Глюксман А. Философия ненависти. М., 2006. 288 с.
- Гоббс Т. Левиафан. М., 2001. 478 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М. ; СПб., 1998. 286 с.
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. 235 с.
- Исаев И.А. Метафизика власти и закона: у истоков политико-правового сознания. М., 1998. 256 с.
- Ковачев А.Н. Символы власти и их интерпретация в различных культурах // Антропология власти: в 2 т. СПб., 2006. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе. С. 249-273.
- Корецкая М.А. Власть: метафизическая тема в неметафизическом контексте // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2007. № 1. С. 10-17.
- Луман Н. Власть. М., 2001. 256 с.
- Марков Б.В. Знаки бытия. СПб., 2001. 566 с.
- Маршалл Т.Х. Размышления о власти // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8, № 4 (32). С. 22-38.
- Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М., 1994. 352 с.
- Носков Э.Г. Онтология власти: сущность, специфика функционирования и воспроизводства. Самара, 2008. 317 с.
- Петрова Г.И. Метафизика власти // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2015. № 4 (20). С. 60-65. https://doi.org/10.17223/22220836/20/8.
- Подорога В.А. Власть и познание (археологический поиск М. Фуко) // Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989. С. 206-256.
- Пфеффер Дж. Власть и влияние: политика и управление в организациях. М., 2014. 464 с.
- Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М., 1998. 414 с.
- Тоффлер О. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. М., 2001. 669 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 446 с.
- Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: мир - конечность - одиночество. СПб., 2013. 590 с.
- Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 214-233.
- Халипов В.Ф. Наука о власти. Кратология. М., 2008. 448 с.
- Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. М., 2005. 1054 с.
- Blau P.M. Exchange and Power in Social Life. N. Y., 1964. 352 р.
- Clegg S. Frameworks of Power. L., 1989. 320 р.
- French J., Raven B. The Bases of Social Power // Studies in Social Power. Michigan, 1959. P. 150-167.
- Wrong D. The Problem of Order: What Unites and Divides Society. N. Y., 1994. 354 p.