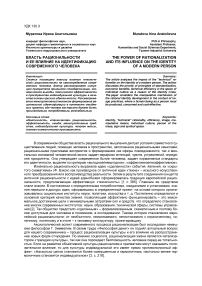Власть рациональности и ее влияние на идентификацию современного человека
Автор: Муратова Ирина Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу влияния «технической» рациональности на самоопределение современного человека. Автор рассматривает ситуацию приоритета принципов стандартизации, экономической выгоды, технической эффективности в пространстве индивидуальной культуры в качестве основы кризиса идентичности. Рассматривается манипулятивный механизм формирования рациональной идентификации в контексте имиджевых практик, где человек как персона должен быть производимым, потребляемым, рентабельным.
Идентичность, "техническая" рациональность, эффективность, имидж, манипулятивные средства, индивидуальная культура, человек массы, знаково-символическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14940962
IDR: 14940962 | УДК: 130.3
Текст научной статьи Власть рациональности и ее влияние на идентификацию современного человека
В современном обществе власть рационального мышления диктует условия совместного существования людей, помещая человека в пространство, заполненное рациональными смыслами, рациональными практиками восприятия и формирования как сферы повседневности, так и ментальных оснований человеческой жизни; задает иерархию интенций, чувств, устремлений, определяя приоритеты. Она утверждает современное бытие человека, задает нормативные стандарты его идентичности, выделяя по критерию «выгодное/невыгодное», «эффективное/неэффективное».
Изначально рациональность выражала идею «сделанности» события, явления, их «скрытого схематизма» (Ф. Бэкон) как производное от античной идеи «техне» – искусного искусственного преобразования или воспроизводства реальности. Затем в результате соединения концепта античной рациональности с идеей единобожия сформировалась традиция европейской рациональности, предполагающая эффективную «техничность» [1, с. 366]. Главным ее средством стали знания. В соотнесении с определенными потребностями, ожиданиями и установками, знания перешли в дискурс идеи, оформившись в определенный проект, на основе которого организовывались социальные институты науки, политики, искусства и т. д. Постепенно определился и основной критерий качества знания, позволяющий эффективно функционировать – это максимальное достижение цели с минимальными затратами сил и средств, что определило становление многих современных институтов: науки, образования, технической сферы, системы управления [2]. Так общество предстало «сделанным» – формализованным, схематичным и поэтому более доступным для человека в понимании, в исследовании. Такова история становления европейской рациональности: от необъятного, неиссякаемого, непостижимого к ограниченному, конечному, понятному и в итоге – к человеку-конструктору, проектировщику.
Аксиологический аспект современного процесса рационализации был исследован немецким философом Г. Зиммелем. В своем труде «Философия денег» он поднял актуальный вопрос для нашего современника – процесс рационализации культуры и его влияние на распространение новых форм отчуждения. По мнению социолога, рационализация жизни является катализатором «трагедии культуры», так как она порождает беспомощность человека перед ее тотальностью. Если на развитие объективной культуры рационализм и прагматизм могут оказывать положительное влияние, то для культуры индивидуальной это имеет прямо противоположный эффект: «Насколько целое становится более совершенным и гармоничным, настолько менее гармоничным становится индивидуальное» [3, с. 218].
Современная рациональность, ориентируясь на выгоду, техническую эффективность, выигрышные схемы, требует для своего установления принудительного подчинения, вызывая на уровне индивидуальной культуры нравственные, аксиологические проблемы. Она особым образом формирует отношение к таким нравственным феноменам, как ответственность, совесть, покаяние, выявляя величину их выигрышности, комфортности, практицизма. В нормативной системе, подчиненной реализации идеи эффективности, они часто расцениваются как нецелесообразные категории. Результатом гиперболизации рациональности выступают безнравственность, отрицательные последствия технического прогресса, все большая подчиненность искусственным критериям человеческого бытия. Как указывает Г.Л. Тульчинский, «этот вид рациональности ведет к самодостаточности отдельных сфер применения разума: в науке - к крайностям сайентизма, в искусстве - к формалистической эстетике, в технике - к абсурдности самоцельного техницизма, в политике - к проявлениям макиавеллизма, „.к крайностям абстрактного рационализма, чреватого самозванством, самодурством разума и насилием. Кризис распадающегося на самоцельные, не стыкующиеся друг с другом сферы бытия мира - во многом следствие безудержной экспансии “технической” рациональности» [4].
О негативном влиянии «технической» рациональности на идентичность современного человека писал Э. Эриксон, анализируя результаты промышленных революций трех великих стран: Америки, Германии и России [5]. По мнению ученого, рационализация и индустриализация сформировали дискурс воспитания «механистического ребенка». Возник педагогический концепт, идея которого состояла в том, чтобы с самого раннего возраста отрегулировать организм ребенка, его мышление, поведение до точности часового механизма, сделать человека стандартизированным придатком индустриального мира. В результате возникла проблема угрозы распространения серийной маски индивидуальности как замены подлинного индивидуализма. Человек индустриальной цивилизации превратился в человека массы. Э. Эриксон, исследуя идентичность, пишет: «Чувство идентичности обеспечивает способность ощущать себя обладающим непрерывностью и тождественностью и поступать соответственно» [6, с. 74]. Однако в массе одноликих именно данная тождественность «я», основанная на различии, и оказывается утраченной.
Сегодня власть рациональности воздействует на человека, подчиняя его самоидентификацию через определение в знаково-символическом пространстве семиотической иерархизации и кодификации его положения. Используя знаки, язык, символические тексты, она регулирует идентификационную сторону бытия человека, его мировосприятие, самосознание, способы самореализации, коммуникативные практики. Рациональная формализация поведения человека, его внешности, жестов и действий сводит к минимуму непредсказуемость его идентификационных аспектов. Данное производство персональных образов является необходимым элементом рациональной системы, которая стремится к упорядочиванию, прогнозируемости и контролю составляющих ее элементов. В результате формируется дискурс дифференциации персональных образов, их «эффективного», «полезного» использования. Им отводится определенное подчиненное место в структуре социальной реальности, что диктует и соответствующие функции -человек как персона должен быть производимым, потребляемым, рентабельным.
Но данная репрессия человеческого самоопределения обеспечивается манипулятивными средствами, и поэтому создается впечатление о первостепенности личностного интереса, выбора в обозначенных практиках дисциплинированности. Данный дискурс внедряется в сознание современного человека как необходимый и очевидный посредством семейного воспитания, системы образования, профессиональной деятельности, СМИ. Человек превращается в один из знаков в тотальной сети означающих без означаемых. «Мы уже не имеем времени искать в архивах памяти или в проектах будущего идентичность. В качестве инстанции идентичности выступает публичность, которая мгновенно верифицируется... Так как собственная экзистенция не является больше аргументом, остается жить явлениями: конечно, я - существую, я - есть, но при этом я - есть образ, воображаемое» [7, с. 33].
Современное дисциплинирование идентификационного процесса, как и прежде, не исключает процедуры влияния, принуждения. Однако происходит это не в форме прямого открытого воздействия, а через рекламу, PR, моду, технологии влияния, методы эффективного психологического мотивирования и т. д. В результате социальная реальность представляется для человека пространством символических стимулов, активизирующих его на совершение запрограммированного поведения. Закрепляясь в человеческих интенциях, желаниях, мотивации, власть рациональности овладевает бытием человека. Так появляется дискурс имиджа человека и практика имиджмейкерства, которые выступают как структуры, обладающие манипулятивными, властными ресурсами.
Актуальность имиджевого проекта обусловлена в первую очередь изменениями в социально-культурной сфере, когда современный человек стал осуществлять идентификацию по- средством самореализации как обязанности рационально «создавать» самого себя [8]. Роль человека стала состоять не в реализации предназначенной сущности, а в максимально эффективном «личностном росте», неотъемлемой частью которого и явился имиджевый проект. Более того, как отмечает З. Бауман, идентификация сегодня предполагает не только поиск самоопределения человека, но и умение доказывать, демонстрировать, презентовать окружающим и себе собственную идентичность: «…человеческая идентичность преобразуется в современности из “дано” в “найти”, из “данности” в “задачу”» [9].
Именно с эпохи индустриального развития – эпохи возможности выбора профессии, сферы деятельности и способа жизни идентичность стала определяться как кризисное явление. Перед человеком встала проблема, которая «состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных черт» [10, с. 185]. Результат власти рациональности – человек должен быть мобильным, быстро реагировать на социально-культурные изменения и быстро адаптироваться к ним. Он рассматривается в контексте обстоятельств и поэтому должен соответствовать им. В силу данных обстоятельств выбор идентичности не является собственно свободным выбором, его следует определить выбором только формально.
Таким образом, мир, построенный на властных структурах «технической» рациональности, оказывается в своих проявлениях антигуманным. Человеческие проблемы идентичности, возникшие в результате глобального отождествления с рациональными представлениями, подобны экологическим катастрофам, происходящим ввиду технических реализаций коммерчески выгодных, политически эффективных властных манипуляций. Рациональность, стремясь к конечному, объяснимому, исследованному, контролируемому, в итоге ограничивает и саму природу человека, унифицирует ее в возможных описаниях, отображениях, выражениях, добивается понимания человека заключительными и завершающими средствами, как в попытке объять необъятное.
Ссылки:
-
1. Эпштейн M.H., Тульчинский Г.Л. Философия тела. Тело свободы. СПб., 2006. 432 с.
-
2. Там же.
-
3. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения. М., 2004. 624 с.
-
4. Эпштейн M.H., Тульчинский Г.Л. Указ. соч. С. 368.
-
5. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 592 с.
-
6. Там же. С. 74.
-
7. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. 96 с.
-
8. Свендсен Л. Философия моды. М., 2007. 256 с.
-
9. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. 390 с.
-
10. Там же. С. 185.
Список литературы Власть рациональности и ее влияние на идентификацию современного человека
- Эпштейн M.H., Тульчинский Г.Л. Философия тела. Тело свободы. СПб., 2006. 432 с.
- Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения. М., 2004. 624 с.
- Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 592 с.
- Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. 96 с.
- Свендсен Л. Философия моды. М., 2007. 256 с.
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. 390 с.