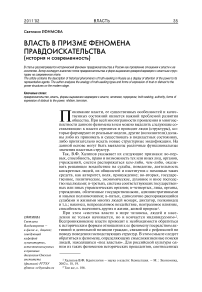Власть в призме феномена правдоискательства (история и современность)
Автор: Ефимова Светлана Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Юбилей
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается исторический феномен правдоискательства в России как проявление отношения к власти к ее носителям. Автор анализирует аналогию типов правдоискательства и форм выражения доверия/недоверия к властным структурам на современном этапе.
Правдоискательство, власть, формы выражения недоверия к власти, нигилизм, терроризм
Короткий адрес: https://sciup.org/170165730
IDR: 170165730
Текст научной статьи Власть в призме феномена правдоискательства (история и современность)
П онимание власти, ее существенных особенностей и качественных состояний является важной проблемой развития общества. При всей многогранности проявления и многоас-пектности данного феномена в нем можно выделить следующие составляющие: к власти стремятся и приходят люди (структуры), которые формируют ее реальные модели, другие (исполнители) должны либо их принимать и существовать в подвластных состояниях, либо притязательно искать новые структурные модификации. На данной основе могут быть выявлены различные функциональные значения властных структур.
Так, В.Ф. Халипов указывает их следующие признаки: во-первых, способность, право и возможность тех или иных лиц, органов, учреждений, систем распоряжаться кем-либо, чем-либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение, деятельность конкретных людей, их общностей и институтов с помощью таких средств, как авторитет, воля, принуждение; во-вторых, государственное, политическое, экономическое, духовное и иное господство над людьми; в-третьих, система соответствующих государственных или иных управленческих органов; в-четвертых, лица, органы, учреждения, облеченные государственными, административными и иными полномочиями; в-пятых, единолично распоряжающийся судьбами и жизнями многих людей монарх, диктатор, полководец и т.д.; наконец, непреодолимое воздействие, неотразимое влияние, способность подчинять других в жизни, живой природе1.
При этом «система власти в мире человека, людей и населения не только начинается, но и кончается индивидуумом»2. Всепроникновение власти приводит к необходимости обратиться к историческим формам отношения к ее феномену посредством активной и деятельной позиции граждан, связанной с рефлексией по поводу поведения господствующих структур. В этом смысле следует обратиться к феномену, определяющему смысложизненные поиски людей, находящихся «под властью». Для российской культуры одним из таких феноменов исторических прецедентов, соотнесенных с понятием власти, является Правда (как «узловое синтетическое понятие», «кон-цепт»)1.
Правда, первоначально определяемая как закон, впоследствии – как нравственный закон, позволяет соотнести власть и человека в поисках их гармоничного единства. Достижение правды предстает идеалом, который необходимо приблизить, в качестве образа божественной природы либо в земных основаниях. Одной из особенностей содержательного напряжения поиска правды становится отношение к власти и с властью.
Власти предержащие рассматриваются как носители правды, соответственно формируются представления об их добром и справедливом характере (нраве), для которых не всегда слышимыми являются известия о том, какая неправда творится в государстве. Подобные установки сознания проявляются и в современных идеях о непогрешимости правителя как человека, который в значительной степени зависит от обстоятельств, от невозможности контролировать всех граждан и т.п.
Формирование смыслов правды восходит к эпохе Киевской Руси, когда она выступала как закон, что проявилось в известном документе славянского права «Русская Правда». Существо правды было связано с представлениями о справедливости в широком смысле, в частности, о справедливости как законе власти. Одновременно понятие «правда» предполагает наличие некоей силы, превосходства (духовного или материального) у того, кто ею обладал. Не случайно развитие смысла «правда» в средневековой России связывалось и с понятием Божией Правды, восходящей к Ветхому Завету. Таким образом, постепенно развивается представление, которое можно выразить следующими состояниями: правда есть осуществление закона, реализующегося властью, а именно правителями. Тогда же она определяется как значительный объем деяний человека, когда ее можно делать, творить. При этом традиция «делания» по закону власти (по Правде) впоследствии реализовывалась неосознанно как проявление мифологического компонента в реалиях общественной российской действительности. Например, конституция П.И. Пестеля, получившая название «Русская правда», определяла, что страна должна была стать демократической республикой: в основе – власть народа, сродни «Русской правде» периода язычества, в которой учитывались интересы определенной части народа. Правда здесь трактовалась как необходимое условие для изменения власти и создания, делания соответствующих законов, обеспечивающих законность нового государственного строя.
Истоками иного понимания правды является новозаветная традиция, в которой Правда связана с идеей личных отношений Бога и людей, реализуемых в системе определенных действий. Бог действует праведно, являет свое милосердие людям; в свою очередь люди праведны в выполнении божественных заповедей. Именно это приводит к пониманию правды как некоего нравственного закона, а не правовой нормы, как в более раннем периоде истории.
Данные представления об отношении к власти разводят российские и западноевропейские представления о реализации закона и роли правителя. В реальной практике западноевропейского средневековья закон (писаное право) только формально исходит от светского владыки; законодатели рассматриваются не как творцы законов, а только как «искатели» истинного, справедливого права. Соответственно, власть реализовывалась ими в соответствии с этим правом. В России состояние власти, а не закона, определялось через соотнесение Реальности и Правды, что отражало степень принятия или непринятия власти народом, проявляющуюся в феномене правдоискательства.
В правдоискательстве просматриваются наличие некоего идеала власти, критика существующих порядков, мечта о наступлении Царства Божия (впоследствии – «идеального общества»). Формы правдоискательства стремятся обнаружить степень гармонизации власти и различных слоев общества, когда государство (правитель) будет проявлять должную заботу о своих подданных, стремясь не пойти против идеального начала. Закономерно, что чем дальше поиски правды от представлений о Божьей Правде, тем более правда распадается на правду-истину и правду-справедливость. В теоретическом умозре- нии происходит тяготение к поиску правды-истины (философские теории, литературно-художественные обобщения, идеологические концепции славянофильства, евразийства и др.). В обыденном сознании выбор склоняется к правде-справедливости. В обоих случаях происходит не просто констатирование приверженности власти правде, но нередко и практические действия (восстания, бунты, революции).
Указывая на деятельные формы правдоискательства, особо следует остановиться на нигилизме в его проявлениях на русской почве. Если юродивые вскрывают отсутствие Правды, в т.ч. укоряя в этом власти предержащие (царей, бояр и пр.), самозванцы, свободомыслящие уже посягают на саму власть, но первые делают это через делание, вторые – теоретически, стремясь, в первую очередь, к просвещен-честву. Но признание сакральности власти периода православной России накладывает вето на изменение ее порядка снизу, во всяком случае по отношению к царствующим особам, снять которое можно лишь тогда, когда выступление связано либо с именем царя, либо он сам выступает в качестве судьи. «Когда на московском престоле появились выборные цари, это вызвало отторжение в политической мысли, она не могла смириться с этим новшеством. Официальное оглашение кандидатуры Михаила Романова началось с того, что на собор было подано “мнение”, доказывающее, что нет никого ближе по родству к вымершей линии московских государей, чем Романовы»1. Но как только снята проблема сакральности, возможны многоразличные события. Так, можно выступить против правительства, которое является выборным, поэтому лишено мистической силы, не связано кровными узами с царской властью, следовательно, не является носителем Божьей Правды, не может претендовать на божье благословение и сохранять устои государственности.
Наиболее интересной в свете политических событий представляется такая форма правдоискательства, как нигилизм. Общеизвестно, что это явление общественной жизни России явилось теоретическим и идеологическим обоснованием терроризма. Именно по отношению к власти и людям, ее реализующим, было направлено данное действие; появлялся некий особенный тип человека с представлениями о правде и попытками претворить идеал в жизнь, разрушить несоответствие реальности.
Брожение в молодых умах в начале XIX в. вылилось первоначально в нигилизм, в последующем – в терроризм. Свойствами, присущими нигилистической среде, являются ярко выраженный догматический материализм, презрение к обывателю и полное отсутствие желания ему понравиться, ненависть к современному обществу, его культуре, морали. Нигилизм, с точки зрения самих нигилистов, есть мировоззрение, в котором, не имея возможности переделать мир, в область мысли вымещается человеческое бессилие: там ничто не останавливает разрушительной критической работы, суеверия, авторитеты разбиваются вдребезги и мировоззрение совершенно очищается от разных призрачных представлений2.
Радикальное отрицание очень часто стремится выступить в ореоле борьбы за светлое будущее как нечто совершенно необходимое для процесса прогрессивного развития. При этом, по словам С.Л. Франка, страсть к устроению рая на земле превращается в страсть разруше-ния3. Порождением и доведением до логического предела «нигилистического» культурного бунта конца 50–60-х гг. XIX в. становится русский революционный терроризм.
Формально в нигилизме, а затем и в терроризме мы наблюдаем такие черты, как неудовлетворенность существующей реальностью, попытку героическими усилиями довести до общества свои убеждения, используя собственный образ. Практика террора – это отказ от попыток логического убеждения общества в правильности своего образа мыслей. Однако это приводит к противоречию: поскольку террор является средством убеждения, но зачастую направлен против тех, кто должен принять соответствующий образ мыслей, то возникает необходимость создать такой образ террориста, который бы привлекал к себе внимание. Последний должен быть не только устрашающим, но и привлекательным. Именно этот привлекательный образ был создан: образ человека, обреченного обществом на подобное проявление своего негодования. Но очень быстро рассеивается ореол геройства и мученичества во имя добра, когда родные жертвы по-христиански жалеют и прощают террористов, раскрывая тем самым их сущность убийц. Необходимо учесть, что речь идет не о терроризме внешних по отношению к обществу и власти индивидуумов, а тех, которые взращены этим обществом.
Историческим преемником нигилизма XIX в. в ХХ в. становится такая форма духовной оппозиции, как диссидентство. В частности, это было проявлением сопротивления унификации мысли и ее омертвению в советском обществе, когда единственный выход из подобного положения дел усматривался в обретении независимости мысли, отказе от пассивного принятия действительности и переходе к самостоятельному осмыслению ее. Диссидентство не получило широкой социальной опоры, и одной из главных причин является преобладание нигилистической направленности движения, когда разоблачительный пафос преобладал над позитивными идеями.
Обращение к событиям современной истории позволяет находить аналогии с рядом форм правдоискательства. Не происходят ли нигилистические акты из выстраивания или использования образа жертвы режима, обстоятельств, чтобы иметь повод громить и разрушать и при этом выстраивать идеологически отработанные оправдания своим действиям?
Обращение к правдоискательству как способу достижения идеалов справедливой и праведной власти показывает, что и сама власть обязана осознавать, что народ (индивидуум) готов поддерживать и разделять ее действия, если они не противоречат ожиданиям и представлениям о справедливости на основе нравственных специфических особенностей сознания, вырабатывавшихся в течение длительной истории. Кроме того, подобные экзистенциальные состояния специфически трактуют законы, действующие в обществе, проверяя, являются ли они выражением Правды или нет. Но следует учитывать, что политические лидеры различных направлений, даже заигрывающие с религиозными организациями, не воспринимаются как сакральные, следовательно, и спрашиваться с них будет иначе – не на Божьем, а на людском суде. По этой причине в разработке теории власти следует особое внимание уделять механизмам гуманизации властных структур, в частности, власти необходимо способствовать эффективному развитию социальной сферы и проведению действенной социальной политики в отношении своих граждан.