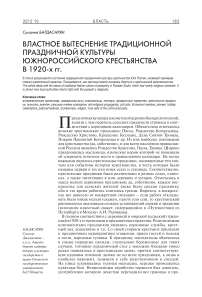Властное вытеснение традиционной праздничной культуры южно-российского крестьянства в 1920-х гг
Автор: Багдасарян Сусанна Джамиловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается состояние традиционной праздничной культуры крестьянства Юга России, носившей преимущественно религиозный характер. Показывается, как местные власти пытались бороться с крестьянской религиозностью.
Антирелигиозная пропаганда, гражданские акты, комсомольцы, пионеры, праздничные торжества, престольные праздники, пьянство, религия, сельские ячейки компартии
Короткий адрес: https://sciup.org/170166100
IDR: 170166100
Текст научной статьи Властное вытеснение традиционной праздничной культуры южно-российского крестьянства в 1920-х гг
П раздничная культура досоветской деревни была религиозной, в связи с чем перечень сельских празднеств строился в соот-ветствии с церковным календарем. Обязательно отмечались великие христианские праздники: Пасха, Рождество Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, День Святой Троицы, Покров Пресвятой Богородицы и др. Из них наиболее значимыми для крестьянства (да, собственно, и для всего населения православ-ной России) являлись Рождество Христово, Пасха, Троица. Широко праздновалась масленица, языческие корни которой не помешали ей сохранить почетное место в православном календаре. Не менее важными являлись престольные праздники, посвященные тем свя тым или событиям истории христианства, в честь которых были названы церкви в тех или иных селах и станицах. Соответственно, престольные праздники были различными в разных селах, стани цах, а также тяготевших к ним деревнях и хуторах. Отмечалась и масса мелких церковных праздников; да, собственно, каждое вос-кресенье для сельских жителей также было сродни празднику, ибо в это время работать считалось грехом. Впрочем, в воскресе-нье все зависело от конкретной ситуации — если работу отклады-вать было никак нельзя (скажем, пахоту или сев), то крестьянский рационализм оказывался сильнее установлений церкви и традиции (вспомним известный сюжет, содержащийся в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева).
В полном соответствии с церковной и мирской (сельской) тради-цией в 1920 -хгг. проходили и праздничные торжества. Религиозными компонентами праздников являлись церковные службы, крест ный ход, водосвятие и т.п. Со своей стороны крестьяне прилагали к праздничным мероприятиям угощения, прием гостей и походы в гости, народные гулянья. К празднику земледельцы облачались в самые нарядные одежды, специально береженные для таких случаев, готовили праздничный стол с мясными блюдами (мясо редко появлялось в крестьянском меню, причем соответствую щие кушанья готовили далеко не ко всем праздникам, а лишь к наиболее важным), зазывали к себе родственников и соседей. На улице устраивались гулянья молодежи, нередко проводились кулачные бои. Непременным атрибутом торжеств был алкоголь, употребление которого зачастую переходило все границы и пре вращалось в повальное пьянство с неизбежными последствиями в виде бытовых конфликтов, мордобоя, массовых драк, которые для отдельных участников закан -чивались иной раз летальным исходом. Неудивительно, что после проведенных с размахом торжеств крестьянам прихо дилось тратить известное время еще и на «отдых от праздника»1. Это было неизбеж-ным, ибо, как говорили жители станицы Атаманской Кубанского округа Северо -Кавказского края в феврале 1928 г., после хороших посиделок и гуляний неизбежно наступало «праздничное похмелье»2, кото -рое, разумеется, отнюдь не способство-вало плодотворному труду.
Надо признать, что пьянство и влеко мые им вышеописанные негативные явле ния, сопровождавшие сельские праздне ства как по всей России, так и в ее южных регионах вряд ли заслуживают оправда ния и понимания. Вместе с тем было бы изрядным преувеличением возводить эти явления в абсолют и говорить о деревен ском празднике как о сплошном пьян стве, мордобое и разврате, игнорируя его социально психологические и социокуль турные функции. Между тем, больше -вистские пропагандисты, критикуя досо ветскую праздничную культуру, впадали в крайности и огульно трактовали традици онные празднества как время активизации непривлекательных животных инстинктов населения: «пьянка, жратва, разгул, драки и хулиганство — вот чем ознаменовались все церковные праздники»3. Здесь, соб-ственно, следует перейти к рассмотрению мероприятий, проводимых в 1920-х гг. лидерами компартии и властными струк турами РСФСР и СССР (в частности, партийно - советским руководством на Юге России) с целью искоренения традицион-ной праздничной культуры крестьянства и замены таковой на новые ритуалы, осно ванные на коммунистической идеологии и утвержденные новой властью.
Расценивая религию как «опиум для народа», большевики поставили своей целью создание светского государства. В Конституции РСФСР 1918 г. (гл. 5, п. 13) отмечалось: «...в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиоз ной и антирелигиозной пропаганды при знается за всеми гражданами»4. В гл. 13, п. 65 «г» Конституции позиция советского государства по вопросу религии и церкви уточнялась: здесь указывалось, что к числу лиц, не могущих избирать и быть избран ными в Советы (то есть, к числу лишен -цев — юридически неполноправной кате -гории в РСФСР и СССР), относились, помимо живущих на нетрудовые доходы, прибегающих к наемному труду и пр., еще и «монахи и духовные служители церков-ных и религиозных культов»5. Добавим, что недоброжелательное внимание совет ской власти привлекали не только монахи и священнослужители, но и те крестьяне, которые принимали активное участие в деятельности сельских храмов в каче стве церковных старост, псаломщиков и пр. В отличие от лиц духовного звания, крестьяне активисты могли и сохра нить за собой избирательные права, не всегда превращаясь в лишенцев, но их ждало повышенное налогообложение как «социально чуждых» лиц. Можно приве сти в пример одно весьма показательное событие, происшедшее в Ставропольской губернии осенью 1924 г. В это время нар -ком земледелия СССР А.П. Смирнов при -был в пострадавшие от недорода районы Ставрополья. Помимо других вопросов, Смирнов принимал и выслушивал мест ных крестьян, обращавшихся к нему с раз -личными просьбами и жалобами. В числе просителей оказался пожилой крестья нин, утверждавший, что ему необосно ванно предъявили завышенные задания по выплате единого сельхозналога (ЕСХН). Реакция наркома земледелия на это обра щение зафиксирована в газете «Молот»: «“А вы раньше церковным старостой не были?” — спрашивает т. Смирнов. — Да я и теперь [отвечает старик]...” Хохот... сме-ется и т. Смирнов»6. Какая уж тут свобода религиозной агитации!
Причины устойчивости религиозных воззрений и православной обрядности в доколхозной деревне очевидны. В значительной мере религиозность являлась закономерным результатом социально -экономической нестабильности эпохи нэпа. Нестабильность эта, обусловленная социальной и налоговой политикой боль шевиков, никак не могла сравниться с революционными потрясениями и жесто-кими испытаниями времен Гражданской войны. Тем не менее она оказывала угне -тающее воздействие на психику множе -ства крестьян и крестьянок, особенно вдов. В этой связи вполне понятны слова одной из российских крестьянок: «...попы, правда, люди не совсем честные, но ведь вот как бывают трудные минуты, когда нет ничего, или еще какое либо несчастье — обратишься к богу, и на душе легче станет»1.
В общем русле борьбы с религией в СССР проходило последовательное вытесне ние религиозных компонентов из празд ничной культуры и постепенная замена церковных праздников гражданскими, призванными напоминать населению о славных вехах мирового коммунистиче ского движения и становления советской власти. В октябре 1923 г. ЦК РКП(б) при -нял специальное решение об антирелиги озной пропаганде в деревне, где формули -ровал необходимость «отвлечения [кре-стьянства] от культа путем организации культурных развлечений, сосредоточения внимания на пролетарских праздниках и торжествах... замены религиозных отправ-лений формами гражданского быта, как-то: религиозных праздников — гражданскими производственными праздни ками (например, праздник урожая, посева и т.д.), таинств — торжественными отправ -лениями гражданских актов с участием (при условии отказа от церковного риту ала) культурно просветительных учреж дений, как, например, гражданских похо рон, панихид, брака, наречения имени и принятия в гражданство (запись рожде-ния) и т.п.»2. Для выполнения этих задач были мобилизованы не только партийно советские работники, но и сельская обще ственность в лице интеллигенции, чле нов Коммунистического союза молодежи (комсомола), пионерии.
Сельская интеллигенция (учителя, агрономы) в силу своего образователь ного уровня могла сыграть важную роль в антирелигиозной работе. Однако, по печальным признаниям большевиков, нередко представители интеллигенции не разделяли их огульно враждебного отно шения к «проклятому прошлому» во всех его проявлениях и стремились дистанци роваться от радикальных мероприятий новой власти типа чрезвычайно грубых, издевательских нападок на церковь, свя щеннослужителей и православную веру. В этой связи наибольшие надежды в ходе преобразований сельской повседневно сти и культуры в соответствии с идеалами социализма возлагались лидерами РКП(б) на членов сельских ячеек компартии, местных советских работников, а также на крестьянскую молодежь.
Большевики справедливо полагали, что «носителями новых идей является молодежь»3, вне зависимости от того, сельская она или городская. Ведь, в отли чие от представителей старших поколе ний, сознание молодых людей представ ляло собой своего рода tabula rasa, и было открыто новым идеям. Более того, уже в силу возраста молодежь проявляет повы шенную склонность к переменам, что было чрезвычайно важно для большевист ских модернизаторов. Поэтому именно с молодежью, а не со старшими поколени ями большевики связывали свои надежды на построение нового общества, о чем в источниках содержится немало сви детельств. Так, в 1920 г. члены Донского комитета РКП(б) твердо заявляли, что «дальнейшее укрепление Советской вла сти может основываться только на моло дом поколении»4. О том же говорили участники совещания секретарей сельских ячеек компартии, проходившего в первой половине февраля 1924 г. при Донецком окружкоме РКП(б), полагавшие, что необ -ходимо опираться на молодежь и что «не нужно гнаться за воспитанием стариков, они от нас уходят»5. Не удивительно, что ударным отрядом в проведении антирели гиозной работы в деревне (как, впрочем, и городах) считались комсомольцы, рас сматривавшиеся своими старшими това рищами - членами коммунистической партии в качестве передовых представителей сельской молодежи. Хотя здесь были и свои проблемы. Например, в январе 1926 г. партработники Донского округа Северо -Кавказского края весьма критически рас -ценивали антирелигиозные «перегибы» комсомольцев, говоря: «...под рождество люди богу молятся в церкви, а они под караулкой кричат, свистят и песни орут. Разве это поднимет авторитет ячейки?»1
Помощниками комсомольцев в постро-ении «светлого будущего», борьбе с пере житками прошлого и среди них — с рели -гиозностью сельского населения должны были выступать пионеры, которых в советской прессе ласково именовали «большевичата, ленинские внучата»2. Правда, в 1920-х гг. масштабы пионер -ского движения на селе не удовлетво ряли представителей власти. В одной из публикаций в газете «Молот» за сентябрь 1924 г. отмечалось: «...в то время как в городе детское коммунистическое движе ние сильно развилось и охватило значи тельное количество пролетарских детей, в деревне это движение еще находится в зародышевом состоянии. Там только за последний год мало помалу начинают создаваться отряды юных пионеров. Крестьянские дети, дети сел и деревень вслед за детьми рабочих начинают инте ресоваться общественно политической жизнью, хотят связаться со своими бра тьями — детьми трудящимися [так в тек -сте] и стремятся к организации»3.
Поскольку сельские дети, указыва лось далее в публикации, демонстрируют стремление к формированию пионерских организаций, «помочь им должны, вме сте с комсомольцами и партийцами, пио нерские отряды города. У нас, городских пионеров, больше опыта, больше знаний. Нам легче достать книжку, газету, побы вать на заводе, расспросить старшего ком сомольца и коммуниста. В деревне это — гораздо труднее. И обязанность пионеров города, детей рабочих — все силы свои при -ложить для помощи деревенским братьям. Городские пионеры должны связаться с определенным селом и даже вызывать к себе в гости деревенских ребят. С своей стороны, из города мы должны двинуться в деревню, рассмотреть, разузнать, как там живут, и вместе с тем помочь деревенским детям. Ни одной экскурсии в деревню без книжек, без “Ленинских внучат” — подарка деревенским товарищам! Каждое звено или отряд, пришедший в деревню, должен созвать детей, рассказать им все, что знают пионеры, организовать их при ячейке РЛКСМ или при избе читальне. А затем не забывать — высылать книги, посылать письма, приходить самим...»4 Результатом таких мер стал постепен ный рост численности сельских пио нерских организаций на Дону, Кубани и Ставрополье.
Итак, в 1920 х гг. попытки партийно советского руководства вытеснить цер ковные праздники в деревне светскими, революционными имели весьма скром ные результаты по причине слабости большевистс кого представительства в деревне, консерватизма крестьянства и устойчивости традиционной сельской культуры, одним из компонентов кото рой являлись основанные на православ ной обрядности праздничные торжества. Несмотря на частичную советизацию, праздничная культура советской докол хозной деревни, в т.ч. сел и станиц Дона, Кубани, Ставрополья, оставалась преиму щественно традиционной. Решительные меры по ее ликвидации были предприняты большевистским режимом только в конце 1920-х гг. в связи с переходом к сплошной насильственной коллективизации.