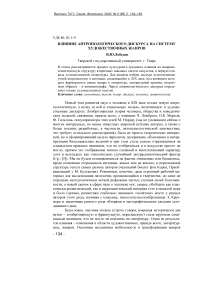Влияние антропологического дискурса на систему художественных жанров
Автор: Лебедев Владимир Юрьевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс культурного средового влияния на жанровосемиотическую структуру вторичных знаковых систем искусства, в первую очередь художественной литературы. Для анализа избран дискурс естественнонаучной антропологии и евгеники, сложившийся в XIX веке, под влиянием которого формируются новые жанры в литературе, литературной критике, вторичным образом - в кинематографе. Черты антропологического дискурса определяют топику художественных текстов.
Семиотика, текст, жанр, дискурс, евгеника, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/146281670
IDR: 146281670 | УДК: 80:
Текст научной статьи Влияние антропологического дискурса на систему художественных жанров
Новый этап развития наук о человеке в XIX веке создал новую антропологическую, а вслед за ней и социальную модель, включавшую и художественные дискурсы. Ломброзианская теория человека, общества и поведенческих моделей, связанная, прежде всего, с именами Ч. Ломброзо, О.Б. Мореля, Ф. Гальтона, популяризатора этих идей М. Нордау (мы не упоминаем сейчас о многих интересных, но менее известных широкой публике авторах, а также о более поздних разработках, в частности, патопсихологической лингвистики, что требует отдельного рассмотрения), была не просто теоретически интересной, но и сформировавшей целую парадигму дескрипции, объяснения и интерпретации биосоциальных явлений и при этом столь сильно отразившимся на социальном праксисе явлением, что не отобразиться и в искусстве просто не могло, причем это отображение носило сложный и многоплановый характер, хотя и выглядело как относительно случайный экстрасемиотический фактор (Ср.: [5]). Мы не будем останавливаться на фактах очевидных или банальных, вроде появления сторонников евгеники, явных или не вполне, в персонажной структуре текста самых разных авторов (чеховский биолог фон Корен, Преображенский у М. Булгакова). Романтики, конечно, дали огромный рабочий материал для исследования патологии, проявляющейся в творчестве, но сами не породили методологически четкой рефлексии частых случаев своей болезненности, а новый скачок в сфере наук о человеке мог, скорее, обобщать как классически романтический, так и неоромантический материал (что в немалой мере и было сделано, романтики стабильно занимают «почётное» место у разных авторов этого рода, начиная с классика, психолога-неоломброзианца Э. Креч-мера и заканчивая разного рода обзорами и патографическими сводами сегодняшнего дня).
Безусловно, научная модель (строго говоря, имевшая исторически две ветки – ломброзианскую и французскую, морелевскую) стала крупным социальным явлением, что не могло не повлиять на литературу. Один из результатов влияния – изменения в области художественных, прежде всего, литературных, жанров. Основные механизмы мобильности и трансформации жанров рассматриваются в двух основных парадигмах: интрасемиотической, делающей акцент на внутренних дискурсивных механизмах изменения жанровой системы [4], и экстрасемиотической, подчеркивающей средовые влияния, детерминирующие указанные изменения [2, 3]. У Ю.М. Лотмана представлено сбалансированное сочетание факторов обоего рода [6, c.269–275]. Интересующие нас изменения вначале демонстрировали ответ на средовые социальные влияния, а затем интериоризировались, стали частью жанровой системы и регулировались преимущественно внутренними закономерностями. Указанные изменения происходили несколькими основными путями. Во-первых, трансгрессия жанров из сферы медицинского дискурса. Прежде всего, это растущая популярность патографий, которые из чисто вспомогательного средства (нужного для популярной в XIX веке посмертной диагностики и составления семейного анамнеза) стали вариантом биографии, востребованным публикой вполне немедицинской. Более раскованный и даже цветистый стиль многих медиков XIX-начала ХХ вв. привлекал читателя, будучи функциональным маркером литературности, а описание болезни (чаще всего яркое, с подробным прописыванием деталей наиболее необычных случаев) было востребовано наряду с уже имевшимися в литературе сюжетными и описательными подробностями, сближая прагматику такой литературы, напр., с детективом.
Во-вторых, формирование новых художественных жанров с включением элементов «нового знания», в частности, евгенический роман и его позднейшие модификации.
Затем, критические жанры, где основным инвективным мотивом был болезненный, «дегенеративный» характер творчества того или иного автора. Наиболее яркий пример – критические работы М. Нордау, из-за относительной простоты идей и очень яркого стиля становившиеся подчас массовым чтением. Авторитет Нордау при этом многими воспринимался как абсолютный, что, конечно, было преувеличением хотя бы потому, что теория вырождения в интерпретации Нордау оказалась упрощенной и излишне прямолинейной.
Наконец, появление жанровых контаминаций, обычно в порядке перевода текста на язык другой знаковой системы (типичный вариант – создание кинофильма на материале вербального текста). Часть элементов сюжета, персонажной системы, деталей могли «переводиться», транспонироваться с помощью когнитивной системы координат неоломброзианской теории вырождения, что-то могло привноситься полностью, как текстовая новация, что-то же оставалось изначальным. Последовательного перевода не происходило именно из-за изменения жанра, но изменение не доходило до логического конца, имела место именно контаминация, оставлявшая путь новым трансформациям.
Патографии пользуются популярностью и сейчас, поэтому переиздаются старые, а также пишутся новые, с соблюдением канонов этого, в целом, достаточно старого и в чем-то архаичного жанра (с введением новых методов диагностики в медицине патографиями пользоваться перестали, особенно в обыденной клинической практике). Привлекательность усиливается за счет красочного языка, присущего медицинскому дискурсу того времени и утраченному ныне [1]. В частности, стали переиздаваться и классические патографии, издававшиеся Г.В. Сегалиным. В целом же интересное явление беллетризации классических медицинских текстов требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки статьи. Происходит «семантическая догрузка» жанра, когда на материале расширенной патографии создается полумедицинское, по-лубиографическое исследование, которое может быть интересно как специалисту, так и обычному представителю широкой публики, питающему интерес к биографиям. Создание, перевод и переиздание «биографий-патографий» отчетливо наблюдаются в России уже с 1990-х гг.
Можно отметить и довольно яркий феномен формирования «ломбрози-анской» и «евгенической» критики, наиболее яркие образцы которой были представлены М. Нордау. Нордау придавал язвительную и яркую форму типичной осевой конструкции критического текста такого рода: диагностирование признаков вырождения как у персонажей, так и у авторов, которые таких персонажей порождают. Случались и забавные эпизоды, вроде причисления к «вырожденцам» самого Золя только на том основании, что в его романах много «дегенеративных» типажей [7; 8]. В причинах сознательного их введения в сюжет и персонажную структуру Нордау, видимо, не разобрался, не распознав, таким образом, собственного союзника. Евгеническая критика демонстрирует порой как гиперкритицизм, так и клинико-диагностическую доминанту – привнесения из дискурса бурно развивающейся медицины, совершенно расстающейся с тем обликом, который она имела еще в веке XVIII.
Попытки художественного осмысления ломброзианства и евгеники формируют новые жанры художественной литературы. Ярким примером является евгенический роман Э.Золя, где вся семейная история (Ругон-Маккары) представлена как лонггитюдное наблюдение над семьей, пораженной дегенеративной патологией, которая проявляется в самых разнообразных формах (но как правило, описанных в научной литературе того времени), диктует поведение героев, становится причиной трагедий и аморальных поступков. Интересно, что Золя отмечает и такое свойство «дегенеративного» индивида, как склонность к творчеству нереалистического типа, а также описывает попытки создать стимулирующий препарат, позволяющий затормаживать явления старения (череда искателей таких препаратов – как в литературе, так и в жизни – заявила о себе при жизни писателя). В романе «Дамское счастье» предложен классический для теории дегенерации способ борьбы с вырождением – заключение брака с представителем здоровой семьи, у Золя, при его демократических симпатиях, носители здоровой конституции – не случайно представители социальных низов. Всерьез заинтересованный достижениями позитивных наук, Золя создал масштабную модель теории дегенерации, нечто вроде художественного полигона для её проверки. В более мягких формах этот жанрообразующий принцип использовался и позднее, в частности, в «Будденброках» Т. Манна, где само наблюдение над жизнью четырех поколений одной семьи слишком явно намекает на закон четырех поколений О. Мореля, согласно которому в большинстве вырождающихся семейств патологические явления нарастают в пределах жизни четырех поколений, где последнее оказывается замыкающим больной род.
Ярким примером контаминации является создание кинематографической версии новеллы Э. По «Падение дома Ашеров», которая в результате сохранила черты новеллы ужаса, но во многом превратилась не в таинственную, а вполне ясную и позитивистски объяснимую историю семьи, пораженной - 136 - вырождением. Википедия дает следующую характеристику: «…фильм ужасов, снятый режиссёром Роджером Корманом в 1960 году. Вольная интерпретация одноимённого рассказа Эдгара По» [9]. Можно оспорить как жанровую характеристику, так и указанную степень «вольности» интерпретации. Для антрополога или историка медицины (как и психологии) ужасов в том понимании, в каком о них можно говорить применительно к готической новелле, в фильме практически нет, зато он воспринимается как очень интересный пример переосмысления текста с учетом интеллектуальных (и не только) интересов и увлечений эпохи. С евгеникой среднему американцу уже пришлось познакомиться если не в теории, то на практике – в ряде штатов евгенические законы действовали (о чем с удовлетворением говорил один из теоретиков отечественной евгеники Т.И. Юдин); даже после их отмены об этой практике, довольно жесткой, несомненно, помнили еще долго. Кроме того, биографические сведения однозначно говорили о ряде специфических психологических черт самого Э. По, трудностях адаптации к социальной среде, «невротизме» (частый термин в ряде медицинских работ и учебников рубежа веков) и, наконец, о пристрастии к спиртному, что сторонники дегенеративной теории рассматривали и как проявление вырождения, и как одну из возможных его причин (хроническая интоксикация). Ассоциированность «психически изломанной» личности писателя с явным и необычным талантом не только полностью вписывалась в понятийно-когнитивные рамки дегенеративной теории, но явно предлагали искушение последовательно рассмотреть их именно так. Фильм в немалой мере декон-струирует сложную символику изначального текста, выявляя более простые и однозначные причины рождения столь интересного сюжетного ряда, замаскированные сложными фигурами романтической семиотики. Ж.-П. Сартр мог бы написать что-то подобное в своей известной биографии Бодлера, если бы не был ангажирован другим интерпретационно-деконструирующим методом, более эффектным, но менее научным – психоанализом.
В новом тексте происходит экспликация явлений, объяснимых с точки зрения ломброзианства и евгеники. Родерик – типичный характер, порожденный дегенерацией (гиперэстезия, интровертность, склонность к необычному творчеству и нестандартному мировосприятию). Имплицитные ломброзиан-ские мотивы, имеющиеся у Э. По, усилиями режиссера становятся не только выраженными, но и стержневыми, влияющими на необычную модификацию сюжета в фильме. Недуг наследственный, препятствует заключению брака, прослеживается на протяжении нескольких поколений кровных родственников, причем в рамках тех болезней, которые в период становления и интенсивного распространения теории дегенерации именовались «моральным помешательством». Вполне евгенический рассказ Ашера о гибели семьи сопровождается демонстрацией портретов родни, выполненных в манере, близкой позднему романтизму и экспрессионизму, представители которых не единожды навлекали на себя обвинения именно в «дегенеративных» тенденциях (что популяризировал Нордау).
Не совсем понятно и последовательно поведение Родерика. С одной стороны, понимая глубину дегенеративного поражения, он препятствует браку сестры, дабы пресечь не просто дальнейшее распространение патологии, но и ассоциированной с ней преступности и асоциальности (сущность его заявле- ний о фатально плохой наследственности понятна даже человеку, далекому от медицины и антропологии). Но сами творцы теории дегенерации полагали, что положение может быть исправлено браком со здоровой семьей, что и происходит в романе «Дамское счастье». Но, во-первых, такой успех не всегда гарантирован, он только лишь дает надежду и может быть испробован без ожидаемых результатов, во-вторых, неясно, насколько Родерик, осуществляющий типичную евгеническую меру («отрицательная евгеника», препятствование нежелательному браку), был осведомлен о возможности таких браков и их неоднозначном исходе. Во всяком случае, даже некоторые евгенические законодательства, принятые на волне увлечения практической евгеникой, рассматривали с подозрением даже те возможные браки, где неблагополучной была только одна сторона. Необычайная сила сестры Родерика, явленная перед смертью, вполне соответствовала многочисленным медицинским описаниям того, как в моменты обострений больные становятся невероятно сильными физически.
В результате от изначальной готической новеллы неизменной осталась лишь сюжетная линия иррационального родства между Ашером и его домом и сверхъестественное финальное разрушение последнего. Впрочем, и необычным признакам дома отчасти дано новое объяснение – дом вобрал нечто вроде «энергии» морально помешанных (еще один эквивалент «дегенерации», распространенный в англоязычной медицине) членов семьи. Механизм этого не объясняется, но перед нами уже не загадочное и полиинтерпретативное явление, а относительно понятный случай, хотя бы частично объяснимый с точки зрения антропологии и патопсихологии Ломброзо-Мореля. Полного перевода в иную понятийную систему не произошло, хотя интерпретация изначального текста всё же значительно поменялась, что породило путем контаминации новые жанровые признаки, весьма интересные и семиотически, и чисто художественно, и с точки зрения существующего до сих пор неоломброзианства.
Возрождение интереса к ломброзианской теории, возможно и очередной виток неоломброзианства, скорее всего, найдет отображение и в современном искусстве.
THE INFLUENCE OF ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE ON THE SYSTEM OF ARTISTIC GENRES
Vladimir Yu. Lebedev
Список литературы Влияние антропологического дискурса на систему художественных жанров
- Агеева З.М. Патография Сергея Есенина. М.: ИПО "У Никитских ворот", 2015. 196 с.
- Баринова Е.Е. Проблема классификации в теории литературных жанров // Вестник Челябинского государственного университета 2012 №6 (260) Филология искусствоведение Вып. 64 С. 17-25.
- Бранский В.П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград.: Янтарный сказ, 1999. 704 с.
- Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
- Лотман Ю.М. О роли случайных факторов в литературной эволюции // Ю.М. Лотман. История и типология русской культуры. СПб.: "Искусство-СПБ", 2002. С. 128-135.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Ю.М. Лотман. Об искусстве. СПб.: "Искусство-СПБ", 2000. С. 14-287.
- Нордау М. Вырождение // М. Нордау. Вырождение. Современные французы. М.: Республика, 1995. С. 21-330.
- Нордау М. Современные французы // М. Нордау. Вырождение. Современные французы. М.: Республика, 1995. С. 331-384.
- Падение Дома Ашеров [Электронный ресурс]. / Википедия URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения 10.01.2020).