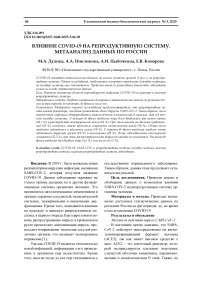Влияние COVID-19 на репродуктивную систему
Автор: Дудина М.А., Никликина А.А., Цыбочкина А.И., Комарова Е.В.
Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu
Рубрика: Клиническая медицина
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
COVID-19 оказывает патологическое влияние на многие системы органов, в т.ч. и на репродуктивную систему. Однако исследований, позволяющих конкретно определить действие инфекции на половую систему, еще недостаточно. Провести анализ и установить взаимосвязь заболеваний можно на основе статистических данных. Цель. Изучить механизмы влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на мужскую и женскую репродуктивные системы. Материалы и методы. Проведен метаанализ доступных статистических данных по регионам России за три периода: до пандемии, во время и после нее. Результаты. Материалы научных исследований продемонстрировали, что репродуктивные органы имеют рецепторы, способные установить связь с вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, после перенесенной инфекции обнаруживаются патологические изменения как в мужской, так и в женской половых системах. У женщин во время пандемии чаще всего выявлялись рак шейки матки (43,7 %) и расстройства менструального цикла (65 %). При этом жалобы на обильные кровотечения (10 %) снизились, также произошло сокращение длительности цикла (20 %). Однако после пандемии наблюдалось и удлинение цикла (19 %). У мужчин во время пандемии наиболее часто наблюдались вирусный орхит (19 %) и азооспермия (28 %). Позже заболеваемость азооспермией снижается (25,5 %), при этом распространенность вирусного орхита не изменяется. Рак яичка во время пандемии был выявлен чаще (5,5 %), чем после нее (2 %).
COVID-19, SARS-COV-2, репродуктивная система, половая система, женская репродуктивная система, мужская репродуктивная система, заболевания
Короткий адрес: https://sciup.org/14133867
IDR: 14133867 | УДК: 616-091 | DOI: 10.34014/2227-1848-2025-3-86-98
Текст научной статьи Влияние COVID-19 на репродуктивную систему
Введение. В 2019 г. была выявлена новая респираторная вирусная инфекция, вызванная SARS-COV-2, которая получила название COVID-19. Данное заболевание поражает не только органы дыхания, но и другие функциональные системы организма человека. Это проявляется патологическими изменениями в органах сердечно-сосудистой, выделительной системах, эндокринными и кишечными дисфункциями. Кроме того, оказывается влияние на мужскую и женскую репродуктивные системы, в первую очередь благодаря гематогенному распространению вируса: в кровеносном русле происходит диссеминация вируса, происходит повреждение эндотелия сосудов различных органов, что вызывает полиорганное поражение [1].
Так как COVID-19 является относительно новой инфекцией, информации о его проявлениях в организме еще недостаточно. Кроме того, многие люди до сих пор сталкиваются с последствиями перенесенного заболевания. Таким образом, данная тема продолжает оставаться актуальной.
Цель исследования. Провести анализ и обобщение данных о возможном влиянии SARS-COV-2 на репродуктивную систему организма человека.
Материалы и методы. Проведен метаанализ доступных статистических данных по регионам России за три периода: до, во время и после пандемии COVID-19.
Результаты и обсуждение
Механизм действия вируса CARS-CoV-2
В настоящее время доказано, что SARS-CoV-2 действует непосредственно на ангио-тензинпревращающий фермент человека (ACE2), так как имеет высокое сродство с ним. ACE2 – это клеточный рецептор, который экспрессируется клетками эндотелия, слизистой оболочки кишечника, кардиомиоцитами и альвеолоцитами II типа. Также, по некоторым данным, он был обнаружен в мужских гонадах, что говорит о возможности негативного влияния SARS-CoV-2 на мужскую репродуктивную систему [1].
О наличии ангиотензинпревращающего фермента человека в клетках женских репродуктивных органов достоверной информации нет [2]. Некоторые исследования предполагают возможность экспрессии ACE2 в женской половой системе [3], другие же ее отрицают [4].
Для воздействия вируса на клетку необходимо слияние его S-гликопротеина и ангио-тензинпревращающего фермента, который расположен на клеточной мембране. Этому способствует трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2), обеспечивающая прайми-рование S-белка. Данный белок состоит из двух субъединиц: S1 и S2. Первая из них принимает участие в прикреплении вируса к рецептору ACE2 клетки организма, а вторая содействует слиянию мембран SARS-CoV-2 и клетки-хозяина [5].
После проникновения в клетку SARS-CoV-2 вызывает высвобождение патоген-ассоцииро-ванных молекулярных паттернов (РНК вируса), а также паттернов, ассоциированных с повреждением, – аденозинтрифосфата, нуклеиновых кислот и т.д. [6].
Идентификация патоген-ассоциирован-ных молекулярных паттернов происходит через паттерн-распознающие рецепторы, экспрессирующиеся макрофагами, моноцитами, нейтрофилами, дендритными клетками. После взаимодействия паттерна и рецептора активируется транскрипционный фактор NF-Кb, стимулирующий продукцию провоспалитель-ных цитокинов [7].
Идентификация молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждением, происходит белками NLR. Их активация ведет к синтезу ИЛ-1β и ИЛ-18. Взаимодействие этих паттернов с клетками эндотелия, эпителием сопровождается синтезом и высвобождением ИЛ-6, макрофагальных воспалительных белков 1α и 1β, ИФН-γ-индуцируемого протеина-10. Эти цитокины и хемокины привлекают клетки иммунной системы в очаг инфекцион- ного поражения, что сопровождается усугублением воспалительного процесса [7].
При адекватной иммунной реакции Т-лимфоциты уничтожают пораженные клетки до распространения вируса, либо антитела образуют комплекс «антиген-антитело», который подвергается фагоцитозу макрофагами. Воспалительный процесс разрешается и заканчивается выздоровлением.
При дефектном ответе возможно возникновение цитокинового шторма. Это феномен сопровождается накоплением иммунных клеток, что приводит к синтезу и высвобождению цитокинов, повреждению органов вплоть до полиорганной недостаточности [7].
Также выявлено, что вирус, вызывающий COVID-19, может воздействовать опосредованно через CD147 (басигин). Это мембранный белок, который экспрессируется преимущественно в альвеолоцитах II типа и макрофагах. CD147 был обнаружен в гранулезных клетках фолликулов, желтых тел, эпителии яичников, а также в матке и плаценте [2]. Самостоятельно рецептор не способен связываться с S-гликопротеином SARS-CoV-2 и обеспечивать проникновение вируса внутрь клетки-хозяина. Однако в работе С. Fenizia было установлено, что басигин может модулировать экспрессию ангиотензинпревраща-ющего фермента, влияя таким образом на течение COVID-19. Кроме того, отмечается его роль в развитии воспалительной реакции, повышении проницаемости сосудов и активации метаболических процессов [8].
Еще одним альтернативным путем является нейролипин-1 (NRP-1). Связывание вируса с этим рецептором способствует более эффективной диссоциации S-гликопротеина и проникновению SARS-CoV-2 в клетку. Таким образом, NRP-1 является дополнительным фактором, который увеличивает вирулентность вируса. Также, по некоторым исследованиям, рецептор может способствовать развитию коагулопатии при заболевании COVID-19 [8].
Влияние на женскую половую систему
Вирус SARS-CoV-2 воздействует на гранулезные клетки яичников, вследствие чего качество ооцитов снижается. Это приводит к тому, что женщина не может выносить беременность. Вследствие многократного нарушения формирования нормально функционирующих ооцитов происходит развитие повреждающего воздействия на эпителий эндометрия, что может препятствовать имплантации эмбрионов [9]. В дальнейшем развивается женское бесплодие.
У беременных COVID-19 наиболее часто вызывает преждевременные роды. Менее частыми исходами могут стать дистресс плода, перинатальная смерть и мертворождение [10].
Как было сказано ранее, ACE2 является основным рецептором проникновения SARS-CoV-2. Данный рецептор является ключевым ферментом, который регулирует обмен ангиотензина II, оказывающего значимое влияние на функционирование женской репродуктивной системы. Ангиотензин II стимулирует синтез эстрадиола и прогестерона, способствует овуляции и мейозу ооцитов, т.е. повреждение ACE2 может привести к нарушению фолликулогенеза, овуляции, регенерации эндометрия, повреждению желтого тела, способствовать развитию аномальных маточных кровотечений. Особенно выраженно эти нарушения проявляются в секреторной фазе менструального цикла [11].
Также ACE2 был выявлен в тканях молочных желез, что не исключает их как орган-мишень для SARS-CoV-2 [12]. То есть можно предположить инфицирование грудного молока вирусом.
Влияние на мужскую половую систему
Мужская половая система более уязвима к воздействию COVID-19. В основном это связано с отрицательным воздействием на структуры яичка и нарушениями сперматогенеза [13].
Наиболее опасными осложнениями могут стать вирусный орхит, опухоль яичек и мужское бесплодие.
При тяжелом течении заболевания возможно развитие системного оксидативного стресса, который также будет оказывать отрицательное воздействие на мужскую фертильность. Совместно с избыточной воспалительной реакцией стресс негативно влияет на ткани и клетки мужской половой системы, особенно на сперматозоиды [11].
Вирусный орхит вызывает диффузные и глубокие поражения мужских половых клеток, в т.ч. и сперматозоидов, вплоть до апоптоза. Также происходит утолщение базальной мембраны семенных канальцев и их инфильтрация лейкоцитами. Воспалительные цитокины, которые образуются иммунокомпетентными клетками, активируют иммунный ответ организма, вследствие чего происходит угнетение и разрушение мужских половых гамет. Итогом является отрицательное воздействие на фертильность, в тяжелых случаях – развитие мужского бесплодия [9].
Яичко является потенциальным органом-мишенью для SARS-CoV-2, так как в его структурах происходит экспрессия ACE2. Выработка рецептора увеличивается после проникновения COVID-19 в стволовые клетки, где происходит формирование сперматозоидов. Как следствие, происходит остановка развития сперматозоидов на ранних этапах их формирования [9].
Кроме того, SARS-CoV-2 изменяет гормональный профиль мужчин. Это происходит из-за индукции тестикулярного воспалительного и иммунного ответов, т.е. вирус опосредованно поражает яички. При проникновении возбудителя заболевания в организм происходит нарушение гормональной функции мужских гонад, что сопровождается резким повышенным выделением лютеинизирующего гормона, но при этом снижается выделение тестостерона [13]. Эти нарушения связаны со снижением функциональной активности клеток Лейдига. У мужчин, перенесших COVID-19, выявляется снижение соотношения лютеинизирующего гормона и тестостерона за счет циркуляции в крови C-реактивного белка [11].
При COVID-19 также снижается количество сперматозоидов и их подвижность, т.е. вирус оказывает долгосрочное пагубное воздействие на генетику и морфологию этих структур. Данные нарушения могут привести к развитию олигозооспермии, астенозооспер-мии и тератозооспермии [13]. Конечным итогом является мужское бесплодие.
Распространенность заболеваний репродуктивной системы до пандемии COVId-19
До возникновения SARS-CoV-2 первое место среди всех заболеваний репродуктивной системы занимали мужское и женское бесплодие. Анализ данных за 2000–2018 гг. показал, что около 15 % (48,5 млн) сексуально активных, но непредохраняющихся супружеских пар сталкиваются с проблемами бесплодия. Доля мужского бесплодия составляет 20– 30 %, женского –50 %, мужского в сочетании с женским – 20–30 % [14].
В 30–40 % случаях мужское бесплодие является идиопатическим, т.е. причину выявить не удается. В 40–50 % случаев причинами становятся крипторхизм (8,4 %), варикоцеле (14,8 %), иммунологические факторы (3,9 %), опухоли яичек (1,2 %) и другие факторы (5 %). В 10–20 % случаев бесплодие вызывается системными и злокачественными заболеваниями.
Анализ данных демонстрирует, что распространенность мужского бесплодия выросла в 2,1 раза в период с 2000 по 2018 г. (с 22 348 до 47 886 случаев). При этом динамику можно проследить во всех федеральных округах страны. Так, в Приволжском федеральном округе с 2016 по 2021 г. этот показатель вырос более чем на 30 % [15].
Прирост показателя объясняется возрастанием беспорядочных половых контактов, приводящих к развитию воспаления половых желез [16].
Главным фактором женского бесплодия является маточный. Его причины включают генетические заболевания (синдром Майера – Рокитанского – Кюстера – Хаузера), дисфункции и врожденные пороки развития матки [17].
По некоторым данным, распространенность бесплодия среди женского населения возросла на 21 % и держится на уровне 845,3 случая на 100 тыс. населения. В Приволжском федеральном округе данный показатель составляет 252,9 случая на 100 тыс. населения [18].
Таким образом, отмечается тенденция к росту частоты развития бесплодия. При этом первичное обследование чаще проходят женщины, что создает ложное впечатление о том, что соотношение женского и мужского факторов составляет 9:1. Реальная картина является иной: мужской фактор выступает причиной бесплодия пары не менее чем в 40–50 % случаев.
В Пензе и Пензенской области, по данным Пензенского областного центра планирования семьи и репродукции, 42–65 % случаев бесплодия в семье обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, только 5– 6 % – мужской патологией, в 2 % причину выявить не удается.
При анализе данных можно сделать вывод о том, что второй по распространенности причиной бесплодия являются онкологические заболевания репродуктивной системы.
К наиболее значимым видам рака мужской половой системы относятся злокачественные новообразования яичка (РЯ). В 2018 г. в мире доля рака яичка среди всех злокачественных новообразований составляла 0,44 %. В России средний возраст заболевших колеблется в пределах от 36 до 42 лет. При этом в возрастном диапазоне от 15 до 39 лет доля рака яичка среди всех злокачественных новообразований у мужчин колеблется от 5– 8 % до 10–12 %. В России этот показатель находится на уровне 10 %. В 2012–2017 гг. наблюдался прирост заболеваемости РЯ. Наиболее высокие показатели были выявлены в Курской, Владимировской и Новгородской областях, Республике Алтай – 3,1–3,8 случая на 100 тыс. населения [19].
У женщин среди злокачественных новообразований, являющихся причинами бесплодия, выделяют рак яичников, рак шейки матки, рак тела матки. Наиболее распространенным видом является рак шейки матки: 25 случаев на 100 больных (исследования 2016 г. включали 7187 чел.) [20].
В период с 2011 по 2016 г. в России наблюдался прирост заболеваемости раком шейки матки на уровне 12 %. В основном этот вид опухолей выявлялся в 15–39 лет (21 %), а в 40–54 года его распространенность снижалась (11 %). Средний возраст заболевших со- ставлял 52 года. Пик заболеваемости приходится на «активный» возраст. При этом в регионах России распространенность рака шейки матки составляет 4,6–9,7 на 100 тыс. населения. Доля рака тела матки составляет от 5 до 9 % в зависимости от возрастного показателя (15–84 года); доля рака яичников – 3,6 % всех онкозаболеваний. Основными периодами для развития рака яичников считают 15–19 лет и 40–54 года (6,7 %). Пик заболеваемости в России приходится на 65–69 лет (39,1 случая на 100 тыс. населения) [21].
Отметим также, что в аналитическом обзоре 2016 г. был выявлен рост числа заболеваний, связанных с нарушениями менструального цикла. Этот процент возрос в 7,3 раза по сравнению с данными 2000 г. [22]. Среди нарушений менструального цикла наиболее часто встречаются нерегулярный цикл (30 %), обильные менструальные кровотечения (30 %) и его удлинение более чем на 7 дней (10 %). Эти дисфункции являются ведущими причинами развития более серьезных патологий: в исследованной группе они привели к росту частоты аномальных маточных кровотечений (до 65 %), вторичной аменореи (30 %) и формированию утолщенного эндометрия (гиперплазии) (15 %) [21].
Распространенность заболеваний репродуктивной системы во время пандемии COVID-19
Наблюдение за заболеваемостью во время пандемии было сопряжено со множеством трудностей, обусловленных эпидемиологической обстановкой. Самоизоляция, ограничение посещений, а также эмоциональное состояние населения снизило количество обращений в медицинские учреждения. Исследования репродуктивной системы также были не в приоритете в связи с преобладанием интереса к наиболее опасным осложнениям со стороны других систем. К тому же полноценная исследовательская работа требует проведения наблюдений в течение несколько лет, а длительность пандемии составила около 2 лет, т.е. многие показатели удалось зафиксировать лишь спустя время.
Данные, полученные в период пандемии COVID-19, свидетельствуют о сохранении тенденции к росту распространенности нарушений репродуктивного здоровья. Так, стрессогенный фактор пандемии и локдаунов способствовал увеличению частоты развития нарушений менструального цикла [23], которые проявлялись в изменении объема менструации (увеличение у 25 % и уменьшение у 20 % женщин) и ее удлинении (у 19 % обследованных).
Помимо психогенного воздействия, было выявлено и прямое влияние вируса на репродуктивную функцию. У пациенток, перенесших тяжелую форму COVID-19, зафиксировано снижение овариального резерва, что выражалось в уменьшении количества антральных фолликулов [24] и может негативно отражаться на фертильности в отдаленной перспективе.
Наибольшие риски инфекция представляла для беременных женщин. Мета-анализы наблюдательных исследований демонстрируют, что SARS-CoV-2 был ассоциирован с повышенным риском развития преэклампсии, преждевременных родов и рождения детей с малой массой тела [25]. Согласно статистическим исследованиям частота преждевременных родов достигала 24 %, а доля оперативного родоразрешения (в основном кесарева сечения) – 42 % [26]. Среди неонатальных осложнений были зарегистрированы дистресс плода (11 %), рождение маловесных детей (15 %), низкая оценка по шкале Апгар (<7 баллов) на 5-й мин (19 %), необходимость госпитализации в ОРИТН (28 %) и антенатальная гибель плода (2 %) [27].
Распространенность заболеваний репродуктивной системы после пандемии COVID-19
Исследования заболеваемости в этот период также не завершены, так как многие осложнения развиваются на протяжении долгого времени. Поспешные выводы могут привести к негативным последствиям. В связи с прекращением действия многих ограничений закономерно участились случаи обращения в медицинские учреждения и возросло количество выявляемых патологий. Таким образом, были получены новые данные, по которым можно судить о пролонгированном действии инфекции на репродуктивную систему [22].
Статистика
Чтобы объективно оценить влияние COVID-19 на органы репродуктивной системы, необходимо провести сравнение количества случаев заболеваний репродуктивных органов до пандемии, во время и после нее (табл. 1). Также следует учитывать статистику разных регионов Российской Федерации, что может позволить получить более полную и точную картину..
Таблица 1
Table 1
Динамика заболеваемости различными патологиями мужской и женской половой системы в период до, во время и после пандемии COVID-19 в России
Dynamics of pathologies of the male and female reproductive system before, during, and after the COVID-19 pandemic in Russia
|
До COVID-19, % Before Covid-19, % |
Во время COVID-19, % During COVID-19, % |
После COVID-19, % After Covid-19, % |
|||
|
Мужская система Male reproductive system |
Азооспермия Azoospermia |
15 |
28 |
25,5 |
|
|
Рак яичка Testicular cancer |
10 |
5,5 |
2 |
||
|
Вирусный орхит Viral orchitis |
8,5 |
19 |
19 |
||
|
Женская система Female reproductive system |
Рак шейки матки Cervical cancer |
12 |
37,3 |
42,7 |
|
|
Нарушения менструального цикла Menstrual disorders |
Обильные кровотечения Heavy bleeding |
30 |
25 |
10 |
|
|
Удлинение цикла Menstrual cycle lengthening |
10 |
19 |
19 |
||
|
Уменьшение цикла Menstrual cycle shortening |
17 |
20 |
20 |
||
Необходимо отметить общую тенденцию к увеличению частоты развития расстройств репродуктивных органов как мужчин, так и женщин на временном промежутке с 2019 по 2023 г. По России распространенность бесплодия среди женщин выросла на 1/3, среди мужчин – почти в 2 раза. Стоит обратить внимание и на разницу в соотношении мужского и женского бесплодия. Так, например, показатель у женщин в 2021 г. составил 789,1 случая на 100 тыс. населения (0,79 %), у мужчин – 67,1 на 100 тыс. (0,07 %). Таким образом, соотношение женского и мужского бесплодия составляло 12:1.
В динамике развития бесплодия у женщин до пандемии была намечена стабилизация.
Распространение COVID-19 привело к снижению заболеваемости. После 2019 г. различия территорий Российской Федерации по уровню женского бесплодия значительно увеличились.
Самый изменчивый уровень бесплодия отмечается в Северо-Кавказском округе, где с 2019 г. по 2023 г. произошло его снижение на 38,0 %.
Результаты корреляционного анализа выявили взаимосвязь между динамикой заболеваемости COVID-19 и показателями репродуктивного здоровья. В регионах с высоким уровнем инфицирования SARS-CoV-2 в период пандемии был зафиксирован последующий рост распространенности бесплодия, тогда как в регионах с низкой распространенностью вируса отмечалась противоположная тенденция. Данную корреляцию можно объяснить комплексом причин: прямым влиянием вируса на репродуктивную функцию [24], опосредованным воздействием через стресс и психические расстройства [23], а также социально-экономическими факторами, такими как снижение доступности плановой медицинской помощи и ухудшение финансового положения населения в период изоляции [28, 29].
Анализ данных о распространенности заболеваний органов половой системы показывает, что в 2020 г. число выявленных отклонений у обоих полов было ниже, чем в предыдущий и последующий год, как в целом по России, так и в каждом отдельном округе [30].
Статистика впервые в жизни установленных злокачественных образований соответствует выявленной ранее закономерности. Например, число новообразований яичка в 2019 г. составляло 1540, в 2020 г. – 1382, а в 2021г. – 1433; количество новообразований тела матки в 2019 г. равнялось 27 151, в 2020 г. – 24 063, в 2021 г.– 25482. В 2022 г. и 2023 г. показатели также увеличивались [31].
Однако результаты изучения первичной заболеваемости воспалительными болезнями репродуктивной системы не выделяют 2020 г. в количестве выявленных случаев. Наоборот, наблюдается отрицательная динамика данного показателя по всем округам России [32–34].
Кроме того, после пандемии выявляется большое число нарушений менструального цикла. Так, в целом по стране в 2022 г. зафиксировано 1 230 279 случаев, а в 2023 г. – 1 375 512, т.е. на 10,56 % больше. Такая же динамика наблюдается и в регионах.
Согласно данным мониторинга в России у женщин, перенесших COVID-19, наиболее часто регистрировались следующие нарушения репродуктивного здоровья: аномальные менструальные циклы (65 %), синдром поликистозных яичников (7,33 %), эндометриоз (3,33 %). Также был изменен гормональный профиль: имели место низкий уровень эстрадиола (20 %) и низкий уровень прогестерона (13,33 %). Помимо этого, отмечались такие проявления, как аменорея (30 %), сильные кровотечения (10 %), утолщение эндометрия (15 %), миома матки (10 %) [35].
Анализ мужской репродуктивной функции после COVID-19 выявил высокую частоту нарушений сперматогенеза: нормозооспермия зарегистрирована лишь у 33,5 % мужчин, в то время как патоспермия – у 66,5 %. В структуре нарушений преобладали азооспермия (25,5 %) и олигозооспермия (7 %). У 76,7 % пациентов отмечено патологическое повышение уровня интерлейкина-8 в эякуляте, что свидетельствует о воспалении и может являться причиной олиго- и криптозооспермии. Также среди переболевших отмечались случаи вирусного орхита (19 %) и лейкоспермии (61 %) [36].
Заключение. Таким образом, прослеживается определенная взаимосвязь между COVID-19 и патологическими изменениями мужской и женской репродуктивных систем. По данным многочисленных исследований, репродуктивные органы имеют рецепторы (ACE2 и CD147), на которые способен воздействовать вирус SARS-CoV-2. В связи с этим можно наблюдать изменения как в женском организме, так и в мужском.
Со стороны женской репродуктивной системы наиболее часто встречались аномалии менструального цикла (65 %). Статистически значимо уменьшилось количество случаев обильных кровотечений (10 %), что связано со способностью вируса вызывать повышенную коагуляцию. В связи с этим увеличилось число жалоб на укорочение менструального цикла (20 %). Также часто наблюдалось и удлинение менструального цикла (19 %), что происходит из-за патологических изменений процессов обновления эндометрия и приема некоторых лекарственных препаратов при лечении коронавирусной инфекции. Значительно вырос показатель заболеваемости раком шейки матки (43,7 %), так как появились нарушения, предрасполагающие к развитию данного заболевания (истинная эрозия и псевдоэрозия шейки матки, цервициты).
При анализе статистики заболеваний мужской половой системы можно выявить, что во время COVID-19 возросла частота развития азооспермии (28 %) и вирусного орхита (19 %). Это связано с тем, что вирус влияет на ткани яичка и на сперматогенез. После SARS-CoV-2 заболеваемость азооспермией снижается и составляет 25,5 %. При этом частота развития вирусного орхита не изменяется и продолжает держаться на уровне 19 %.
Отдельно стоит рассмотреть динамику заболеваемости раком яичка. Его распространенность уменьшается как во время пандемии (5,5 %), так и и после нее (2 %).