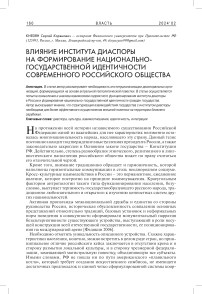Влияние института диаспоры на формирование национально-государственной идентичности современного российского общества
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает необходимость институционализации диаспоральных организаций, формирующаяся на основе актуальной геополитической повестки. В статье осуществляется попытка осмысления и анализа взаимосвязи корректного функционирования института диаспоры в России и формирования национально-государственной идентичности граждан государства. Автор высказывает мнение, что структуризация взаимодействия государства с институтом диаспоры необходима для более эффективного осуществления внешней политики на территории ближнего зарубежья.
Диаспора, культура, взаимоотношения, идентичность, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170204446
IDR: 170204446 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-160-164
Текст научной статьи Влияние института диаспоры на формирование национально-государственной идентичности современного российского общества
Н а протяжении всей истории независимого существования Российской
Федерации одной из важнейших для нее характеристик неизменно оставалась многонациональность народа, населяющего эту страну. Данный тезис постоянно находит подтверждение в выступлениях президента России, а также законодательно закреплен в Основном законе государства – Конституции РФ. Действительно, степень разнообразия этнического, религиозного и лингвистического наполнения российского общества может по праву считаться его отличительной чертой.
Кроме того, внимание традиционно обращает и гармоничность, которой наполнены горизонтальные коммуникации в столь неоднородном социуме. Кросс-культурные взаимодействия в России – это перманентное, ежедневное явление, которое построено на принципе взаимоуважения. Краеугольным фактором антропологии такого типа функционирования населения, безусловно, выступает терпимость государствообразующего русского народа, традиционно любознательного и открытого к изучению ценностных систем других национальностей.
Активная пропаганды межнациональной дружбы и единства со стороны руководства России, историческая обусловленность совпадения основных представлений относительно традиций, базовых установок и неформальных норм поведения в совокупности сформировали монументальный нарратив безальтернативности существующего устройства, выступающий в роли несущей конструкции всей отечественной государственности, ее позиционирования на международной арене [Федякин 2006].
Необходимо отметить уникальность описанного устройства. Схожие характеристики населения, конечно, можно встретить в целом ряде стран, но принципиальное отличие российского кейса заключается в отсутствии крена и в сторону размытия локальной культуры, и в сторону чрезмерной федерализации, замещающей магистральную повестку, объединяющую все субъекты. Иными словами, РФ не пошла ни по пути американского «плавильного котла», который требует создания искусственного симбиоза, не имеющего достаточных предпосылок и единой четко сформулированной системы коор- динат, ни по пути Турции, которая законодательно закрепляет, что все ее граждане должны называться турками.
Россия предоставляет всяческие условия для изучения и транслирования собственного культурного кода, при этом предлагая быть частью мощнейшей международной общности, условно называемой русским миром. Очень важно оговорить, что такая политика не носит декларативный или директивный характер. Россияне сами стремятся к духовно-ценностной взаимной интеграции. Доказательством этому может служить популярность туристических поездок, например, на Кавказ, где местные устои гостями воспринимаются не в качестве обременения, а как дополнительная составляющая местного колорита. Также можно вспомнить про гастрономическое разнообразие заведений общественного питания в крупных городах, которое заняло свою важную нишу в процессе межнациональных коммуникаций [Капицын 2014]. Постоянное взаимодействие в рамках деловой и академической среды, общественно-благотворительных организаций, а также учебных заведений – все это с ранних лет воспитывает в гражданах готовность к мирному сосуществованию с людьми, относящимися к другой национальности или исповедующими другую религию.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что на территории Российской Федерации установился исключительный социальный микроклимат.
Однако подобная вариативность менталитетов порой неизбежно приводит к определенным конфликтам, возникающим по причине разных представлений о тех или иных морально-нравственных вопросах, о гранях допустимого в дискуссиях и предпринимаемых действиях. Плотность коммуникации разных народов, привыкших к различным средам обитания и обладающих несколько отличной этикой поведения, неотвратимо выступает катализатором конфронтации.
При этом конфликтогенность далеко не всегда заключается в глобальных и принципиальных разночтениях. Зачастую она базируется на ситуативных аспектах, которые, к сожалению, иногда имеют потенциал к развитию в более глобальные противостояния.
Кроме того, дополнительное напряжение создает и тенденция экстраполяции негативного настроя по отношению к конкретным представителям какого-либо этноса на весь этот этнос. Подобный подход лишен всяческого конструктива и объективности, но сохраняет свою актуальность, поскольку является следствием не рациональных суждений, а эмоционального всплеска, не нуждающегося в логически стройной аргументации.
Очевидно, что любые правонарушения и конфликты должны рассматриваться исключительно в русле законности и правопорядка. Противоречия, возникающие на этнорелигиозной почве, очень опасны, а потому жестко пресекаются сотрудниками соответствующих силовых ведомств, в чьей юрисдикции и находится контроль за верховенством и исполнением действующего законодательства.
Но, как и в большинстве сфер жизнедеятельности, профилактика чрезвычайных ситуаций не менее важна, чем квалифицированное и оперативное реагирование на их возникновение. Это направление в целом также курируется, в первую очередь Министерством внутренних дел и прочими компетентными органами, обладающими необходимым административным ресурсом для проведения требуемых мероприятий, способствующих выявлению очагов потенциального напряжения.
В то же время не совсем корректным было бы замыкать столь весомый пласт профилактической работы исключительно на силовых ведомствах. Выстраивание межнационального диалога – это многофакторный, хрупкий процесс, заметно упрощающийся при участии в нем лиц, имеющих лучшее представление о культурных особенностях той или группы лиц [Джгамадзе 2015].
Именно по этой причине все большую актуальность приобретает институт диаспоры. Диаспоральные организации, обладающие иерархической выстро-енностью и регламентом собственного функционирования, следует использовать как важный вспомогательный инструмент профилактической работы, направленной на предотвращение ситуаций, требующих вмешательства силового блока.
Вместе с тем формирование национальной государственной идентичности представителей различных диаспор в России является крайне важным в условиях гибридной войны, ведущейся против Российской Федерации со стороны недружественных акторов мировой геополитики.
Прочные личностные связи, существующие между представителями диаспоры и непосредственно гражданами других государств, являются важнейшим источником коммуникации для транслирования пророссийской точки зрения на происходящие в мире геополитические события
Выстраивание четких механизмов взаимодействия власти с институтами диаспоры выглядит очень важным в контексте осуществляемых коллективным Западом попыток по распространению собственного влияния на территории постсоветского пространства [McCrone, Bechhofer 2015].
Существующий порядок взаимодействия государства и диаспор требует более четкой регламентации и структуризации. При этом использование соответствующего института в качестве косвенного источника коммуникации с населением стран ближнего зарубежья становится более эффективным.
Но только вертикальная коммуникация не способна привести к необходимому результату. Необходима фундаментальная работа по интегрированию диаспоральных организаций в государственный инструментарий осуществления внутренней и внешней политики, где они могли бы выполнять роль медиатора между правительством и непосредственно представителями различных этносов, а также нивелировали бы пробелы в кросс-культурном диалоге с государствообразующим народом, которые иногда выявляются, особенно на фоне возросшего уровня стресса населения, связанного с турбулентностью международной политики последних лет
Более эффективная локальная активность диаспор имеет высокий потенциал в контексте выстраивания наднациональной российской общности с ее традиционными ценностями и определенным вектором развития. При этом характерную для Российской Федерации многонациональность и толерантное отношение к ценностным ориентирам разнообразных национальностей следует сочетать с однозначным декларированием приоритетности национальных интересов России и соблюдения существующего в ней законодательства.
Недоработки регуляторной политики в сфере диаспоральных структур неизбежно не только приводят к росту числа мелких бытовых межличностных конфликтов, но способны также и генерировать криминогенность в работе национальных объединений [Masella 2013].
В свою очередь, планомерная консолидация государственных усилий в осуществлении контрольно-надзорной функции, проведение культурно-массо- вых и просветительских мероприятий способны обеспечить формирование патриотичных воззрений у граждан РФ любого этнического происхождения, что, безусловно, является не только значимым каналом транслирования собственной позиции в иностранных государствах, но и важным условием устойчивости национальной безопасности Российской Федерации.
При осуществлении вышеописанных изменений полезным видится обращение к релевантному опыту других государств. В частности, пример Ливана может быть показательным в контексте организованности и систематизи-рованности коммуникаций различных этнорелигиозных групп, плотность и дифференцированность которых в этой стране выглядит действительно впечатляюще. Нормативно прописанный порядок обращений, озвучивания собственного мнения национальных меньшинств, их законодательно закрепленная возможность публичного диалога с властью – все эти аспекты стали основой относительно успешного и мирного сожительства ливанцев, являющихся выходцами из сильно контрастирующих и порой противоборствующих народов [Castells 1997].
Конечно, российский кейс имеет множество уникальных характеристик, которые обусловливают невозможность точного повторения каких-либо иностранных примеров. Показательной в данной ситуации скорее можно считать институционализацию диаспоральных организаций, встроенных в ежедневные юридические и общественные процессы с оговоренными зонами ответственности и назначенными руководителями тех или иных направлений.
Достаточная развитость института диаспоры обеспечивает сублимацию скапливаемой в обществе энергии в конструктивную активность. Она открывает возможности для организованного мониторинга и последующего сравнения динамично развивающейся ситуации [McCrone, Bechhofer 2015].
Однако главной ролью этого института в контексте непосредственно России, безусловно, является обеспечение единения отличающихся друг от друга и порой разрозненных этносов, чьи традиции, культура и история могут периодически противоречить друг другу. Такие обстоятельства должны быть нивелированы с помощью диаспор, которые способны синхронизировать общество, содействуя выработке национально-государственной идентичности, которая опирается на гражданский патриотизм и самоидентификацию в качестве россиянина.
Лишь подобный образ мысли населения способен обеспечить Российской Федерации необходимый уровень консолидации на пути реализации масштабных преобразований и достижения амбициозных целей, которые неоднократно были озвучены президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным [Федякин 2006].
В условиях наличия в кругах, недоброжелательно настроенных по отношению к Москве, восприятия национальной раздробленности в качестве потенциальной точки приложения силы для дестабилизации положения внутри России грамотное использование института диаспоры, как и всех остальных инструментов координирования коммуникации внутри государства, приобретает особую важность.
Список литературы Влияние института диаспоры на формирование национально-государственной идентичности современного российского общества
- Джгамадзе К.Б. 2015. Теоретико-методологические особенности изучения образа страны в массовом сознании. - Вестник Кемеровского государственного университета. № 3(63). С. 40-44.
- Капицын В.М. 2014. Символы национальной идентичности как ресурс "soft power". - Дискурс-Пи. № 1. С. 113-117. EDN: TPHMXN
- Федякин А.В. 2006. Формирование позитивного образа государства как задача информационной политики России: история и современные реалии. М.: Социально-политическая МЫСЛЬ. 378 с. EDN: QOFXSX
- Castells M. 1997. The Power of Identity. Cambridge: John Wiley & Sons. 584 с.
- Masella P. 2013. National Identity and Ethnic Diversity. - Journal of Population Economics. Vol. 26. Is. 2. Р. 437-454. EDN: JWBAND
- McCrone D., Bechhofer F. 2015. Understanding National Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 238 с.