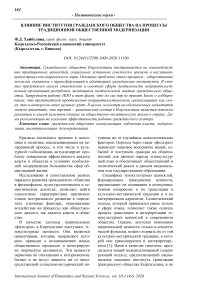Влияние институтов гражданского общества на процессы традиционной общественной модернизации
Автор: Хайбулина Ф.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 10-1 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Гражданское общество Кыргызстана выстраивается на взаимодействии традиционных ценностей, социальных установок советского времени и наслаивающихся процессов современного мира. Основные проблемы этого процесса - общественные коллизии, связанные с трансформацией и адаптацией гражданских институтов. В статье представлен анализ становления и основной сферы деятельности неправительственных организаций республики, являющихся неотъемлемой частью гражданского общества. Затрудняет работу НПО и тот факт, что до сих пор не принят Закон о лоббировании, что препятствует продвижению неправительственными организациями как своих, так и интересов своих целевых групп. В целом, несмотря на обозначенные недостатки можно отметить, что третий - гражданский сектор в Кыргызстане является довольно развитым и имеет заметное влияние на общественно-политическую жизнь в стране. Даны рекомендации по усилению эффективности работы гражданского сектора.
Гражданское общество, коммуникация, публичная власть, модернизация, институализация, демократизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170186793
IDR: 170186793 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11100
Текст научной статьи Влияние институтов гражданского общества на процессы традиционной общественной модернизации
Кризисы последнего времени в экономике и политике, накладывающиеся на непрерывный процесс, в том числе и культурной глобализации, актуализируют проблему повышения эффективности диалога власти и общества в условиях необходимой модернизации большинства сфер общественной жизни.
Исследование и сопоставление разных парадигм развития гражданского общества в философском, культурологическом и семиотическом аспектах, позволяет найти сущностные характеристики кризисных этапов исторического развития и определить ключевые факторы, оказывающие воздействие на процессы, как общественного диалога, так диалога власти и общества.
В качестве системы национальных «фильтров» в Кыргызстане выступают этнокультурные ценности. Они являются ориентирами, которые направляют историю, приводят к возникновению новых общественных процессов и интегрируют их творческую активность. Эти ценности первичны по отношению к историческому бытию и не могут зависеть ни от непосредственной социально-исторической си- туации, ни от случайных психологических факторов. Переход через такие «фильтры» переводит знаковое восприятие вещей, событий и поступков граждан на общепонятный для данного народа этнокультурный язык и обеспечивает общественный и политический диалог в данном национальном или государственном образовании.
Специфика этнокультурных ценностей, формирующих гражданские ценности, предполагает их понимание в коммуникативном измерении: в их трансляции в культурно-исторической традиции и в их интерпретации адресатом. Cемиотический подход, который применялся ранее только к сфере языка, позволяет также описать процесс трансляции и интерпретации этнокультурных ценностей в современном обществе. Однако, допуская понимание национальной ценности только в семиотической функции, можно оторвать их от той культурно-исторической традиции, в которой они транслируются и интерпретируются [1]. Нами в качестве гипотезы, предлагается новый междисплинарный генерирующий подход, предполагающий национальное описание института трансляции гражданского общества Кыргызстана, и по его презентующей функции, создающей форму внутринационального гражданства.
Специфика восприятия этнокультурных ценностей через гражданское общество состоит в том, что хотя они и носят надындивидуальный характер, тем не менее, через институализацию гражданского общества они переживаются именно как индивидуальные ценности. Если человек сталкивается с требованиями закона или морали, то он прекрасно осознает их как императивы, первичные по отношению к собственной индивидуальности. Однако при этом, этнокультурные ценности не воспринимаются как императивы закона и морали. Этнокультурные ценности становятся обязательными только тогда, когда человек воспринимает их как свои личные убеждения [2, с. 88]. В данном процессе, как мы полагаем, есть зависимость традиционных ценностных категорий от внешних инноваций, проявляемых, в том числе и через национальную транскрипцию – «гражданского общества».
Если государственные и идеологические ценности предполагают, что их субъект остается неизменным в акте коммуникации, и потому не обеспечивают возможность культурного развития, то ценности гражданского общества, предполагающие, что субъект обращается сам к себе и тем самым изменяется, в нашем случае, являются главным фактором дальнейшего творческого развития культурной традиции. Например, характеризуя советского человека как часть общества, Ю.А. Левaда, определял его основные черты следующим образом: принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Такой набор характеристик, свидетельствует «скорее об определенной принадлежности человека системе ограничений, чем о его действиях и интересах. Отличительные его черты – принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, но не его активность» [3, с. 24]. Следовательно, в этом процессе по отношению к России при формировании гражданского общества, должен учитываться следующий фактор – те способы поддержки общественным движениям, что были эффективны в странах Центральной и Восточной Европы, явно недостаточны в стране с сильнейшими имперскими традициями, самыми длительными по времени периодами массового террора, полной прерывностью исторических связей с гражданским и общественным опытом советского и постсоветского XX века.
Соответственно, политические идеологии имеют своей целью достижение конкретной выгоды, то самосознание, ориентированное на общечеловеческие принципы, трансформированные через этнокультурные ценности, направлено не на выгоду, а на духовный идеал, который становится фундаментом взаимопонимания и взаимодействия в общем историческом творчестве. Так, в Кыргызстане обращение к этнокультурным ценностям, трансформированным в гражданских институтах, обнаруживает в человеке не просто личность, но историческую личность, которая самоопределяется по отношению к исторической жизни своей страны, региональной и этнической принадлежности, к цели и смыслу исторической деятельности.
Исходя из вышесказанного, анализируя современное состояние гражданского общества в Кыргызстане, мы наблюдаем те же характеристики, как и на всем постсоветском пространстве. Где инициаторы гражданских инициатив, используя опыт и поддержку западных (европейских и американских) организаций и фондов, cтpемились «привить» в Кыргызстане культуру взаимодействия общества с властью, расширить поле благотворительной работы, оптимизиpoвать возможности просветительской и волонтерской деятельности в самых разных областях социальной и политической жизни [4]. Диапазон работы этих организаций и фондов, включает самый разный круг проблем: от защиты окружающей среды, прав этнических меньшинств, развития творческих способностей у детей и до общественного контроля над правоохранительными органами, а также отстаивания независимости журналистов от преследования властей. Вместе с тем, несмотря на все усилия участников этих организаций, и фондов, влияние гражданского общества на демо- кратические процессы в Кыргызстане остаются очень ограниченными. Объяснять трудности его развития давлением государства, видящего в развитии сети некоммерческих организаций (НКО) угрозу собственному монополизму, логично и вполне оправданно, учитывая, что после установления авторитарного и традиционалистского по своим идеологическим установкам режимов экс-президентов - А. Акаева, К. Бакиева, они возросли многократно, поскольку общественные организации стали рассматриваться как каналы западного влияния.
Помимо этого, трудности демократизации и развития гражданского общества были обусловлены особенностями политической и гражданской культуры населения Кыргызстана, не знавшего никакой другой жизни, кроме советской, с ее идеологической установкой важнейших аспектов повседневности. Инерция этого опыта, как показывают различные исследования, была намного более мощной, чем это казалось в первые годы новых Среднеазиатских республик [5, с. 31-42]. И дело здесь не только в недостаточности усилий по просвещению якобы косного общества, слабой эффективности или непродуктивной деятельности по внесению новых идей и знаний о том, как устроены современные демократии, на какие структуры они опираются и т.п., а в недооценке степени и характера приспособленности массового постсоветского человека к репрессивному государству, психологических и моральных следствиях такой адаптации и симбиоза с традиционным азиатским режимом.
Модель гражданского общества, описанная выше, в ситуации краха советского режима нуждалась не только в дальнейшей проверке (насколько устойчивы ее элементы в отдельности и в целом сама система), но и в выяснении целого ряда вопросов: как ведет себя социум в ситуации обыденности исторического перелома, разложения закрытого общества.
Первые выводы, к которым мы приходим, заключаются в том, что с началом распада традиционных образов общественных институтов, общественные уста- новки, воспринимаемые этноиндивидом утратили представление о своем будущем, чувство направленного времени, пафосной уверенности в завтрашнем дне. «В обстановке общественного кризиса латентные компоненты каждой антиномии выступают в это время на поверхность и пре вращаются в мощный дестабилизирующий фактор» [6, с. 50]. То, что составляло и образовывало «подсознание» традиционного общества: теневые, а потому аморфные, плохо артикулируемые значения социальности, касающиеся значений насилия как символического кода поведения, репрессивного контроля, недоверия к другому, страху перед ним, готовности к обману, агрессии, - все это стало выходить на первый план, обретая уже не негативные, а позитивные определения и смыслы коллективной солидарности (значения «наших», «своих», «национальных ценностей», «наследия предков» и т.д.) [7].
Первым симптомом деградации образца, можно считать изменение знака отдельных его составляющих (но не самой его структуры). Линии разложения вначале проходили по символическим значениям власти (объективациям государственного патернализма): сверхавторитет новых политических лидеров и надежды на новую «реформированную» власть (волнообразные процессы роста и падения популярности А. Акаева, К. Бакиева, А. Мадумарова, Ф. Кулова, К. Ташиев и т.п.), скоро обернулись разочарованием и дискредитацией власти в целом, а затем ростом ксенофобии и социальной зависти, что и было канонизировано современной администрацией в виде антипатии и враждебности к «олигархам» и Западу, проявляемые через спорадические акции - борьба с коррупцией, против привилегий, социальная справедливость и т.п.
Иначе говоря, распад традиционной системы институтов отнюдь не означал, что начались интенсивные процессы социально-структурных преобразований, предполагающих автономизацию ведущих групп общества и их ценностей. Важнейшие подсистемы гражданского общества -суд, образование, общественное управление, система массовых коммуникаций - остались под прямым государственным контролем, которому собственно и принадлежат власть, ресурсы силового управления, а ведь именно эти структуры должны оставаться в ведении гражданского общества.
Религия, будучи реабилитированной в постсоветское время, фактически превратилась в один из государственных департаментов. СМИ, получив полную свободу после 1991 года, с приходом К. Бакиева и укреплением вертикали власти, практически ее утратили. Все вместе это означает, что «элиты» по-прежнему ориентируются на власть и не в состоянии выполнять свои собственные социальные функции, то есть остаются псевдо или квази элитами, эти процессы ведут к искаженному восприятию гражданских ценностей как на уровне индивида, так социума в целом [8].
Вместе с тем, попытки восстановить централизованный государственный контроль в прежнем объеме, без сопутствующих социальных механизмов (политической полиции, насаждения единой идеологии, атмосферы страха и т.п.) невозможны, поскольку без них нельзя сдержать постоянно возникающие неформальные (теневые, «серые», сетевые) связи и структуры обмена ресурсами и коммуникации между различными группами и институтами [9, с. 97-117]. В данном случае, расцвет коррупции свидетельствует не столько о падении социальной морали, сколько о настоятельной потребности институционального согласования частных, групповых и институциональных интересов, поэтому коллизии такого рода оказывают разлагающее воздействие на саму систему централизованного государственного кон-
В связи с этим интересно, что еще в первые годы после краха советской системы, среди более образованной части кыргызстанского общества были довольно широко распространены представления о том, что новое поколение, социализированное уже в других условиях, окажется носителем совершенно иных ценностей, будет характеризоваться другой этикой, мотивироваться иначе, чем их предки. Отчасти такие ожидания подкреплялись и данными социологических исследований, свидетельствовавших о том, что молодежь не только более образована, ориентирована на другие стандарты потребления, но и на то, что она не испытывает обычных для старшего поколения страхов. Однако эти предположения оказались скорее набором стереотипов и иллюзий, а не прогнозами, основанными на теоретическом знании и анализе фактического материала. Таким образом, в настоящее время при формировании национального гражданского общества в Кыргызстане, возобладали эклектические тенденции имитации прежних символических структур: ностальгия по советскому величию, идеализация слабоизучен-ного а соответственно не активного исторического прошлого, прежде всего мифологизация побед «Киргизского великодер-жавия», обрядово-магическая сторона религиозного «возрождения» и пр. Настоящее (требования к самим себе, мотивы собственного достижения) по-прежнему воспринимается гражданским населением в категориях хронического развала, кризиса, состояния дезориентированности и безвременья, как фактор удовлетворения своих личных запросов и потребностей.
троля.
Список литературы Влияние институтов гражданского общества на процессы традиционной общественной модернизации
- Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб., 2000.
- Данилевский И.Я. Россия и Европа. - М., 2001. - С. 88.
- Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 1990-х // Авт. кол. А.А. Голов, А.И. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая, Ю.А. Левада (руководитель проекта), А.Г. Левинсон, Л.А. Седов. - М., 2013. - С. 24.
- Байматов Б.Специфические местные аспекты "гражданского общества" в Кыргызстане: взгляд с социальной и географической периферии // Центральная Азия и Кавказ. - 2006. - №4 (46). - С. 17-29.
- Гудков Л., Пчелина М. Бедность и зависть: негативный фон переходного общества // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. - 2005. - №6. - С. 31-42.
- Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. - М., 1997. - 50 с.
- Зотова Н. Центральная Азия: пути и возможности эволюции существующих режимов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.arba. ru/news/1493
- Мусаев Б. Несколько критических замечаний в связи с вопросом о кланах Узбекистана. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.centrasia.ru
- Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. - 1994. - №10. - С. 187-198.