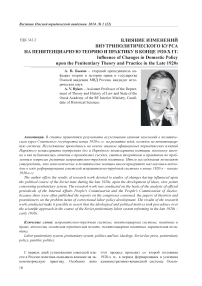Влияние изменений внутриполитического курса на пенитенциарную теорию и практику в конце 1920-х гг
Автор: Быков А.В.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 1 (22), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся результаты исследования влияния изменений в политическом курсе Cоветского государства конца 1920-х гг. на развитие идей, взглядов на пенитенциарную систему. Исследование проводилось на основе анализа официальных периодических изданий Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции, поскольку именно в них публиковались отчеты о проводимых съездах, статьи теоретиков и практиков по проблемным вопросам развития исправительно-трудовой политики. Итоги исследования позволяют утверждать, что идеологические и политические мотивы имели приоритет над научным подходом в ходе реформирования советской исправительно-трудовой системы в конце 1920-х - начале 1930-х гг.
Исправительно-трудовая система, пенитенциарная система, политика и право, идеология, советская юридическая печать, пенитенциарная политика, карательная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14317566
IDR: 14317566 | УДК: 343.2
Текст научной статьи Влияние изменений внутриполитического курса на пенитенциарную теорию и практику в конце 1920-х гг
Labor penitentiary system, penitentiary system, politics and law, ideology, Soviet law press, penitentiary policy, punitive politics.
С первых дней установления советской власти в России политика оказывала влияние на законотворческую практику. Особенно явно 10
этот процесс проходит со второй половины 1920-х гг., в период формирования и усиления административно-командной системы. Основ- ными внутриполитическими факторами, определявшими практически все процессы, проходившие в СССР в этот период, являлись курс на индустриализацию и коллективизацию, а также выдвинутый летом 1928 г. Сталиным тезис усиления классовой борьбы по мере укрепления социализма. Они же диктовали и новые подходы к исправительно-трудовому законодательству и его практической реализации.
В конце 1920-х гг. обострились расхождения во взглядах между представителями Народного комиссариата внутренних дел (далее – НКВД) и Народного комиссариата юстиции (далее – НКЮ) по принципам исправительно-трудовой политики, различным аспектам ее воплощения (степень реализации классового подхода, трудоиспользо-вание заключенных, основные типы мест заключения и т. д.). Свои мнения по этим и другим вопросам авторы высказывали на страницах периодических юридических журналов: «Административного вестника» (орган НКВД) и «Еженедельника советской юстиции» (журнал НКЮ).
Программные взгляды НКЮ на реформу пенитенциарной системы представлены в статье Ф. Трасковича «Исправительно-трудовая политика» [6], которая, в сущности, является тезисами доклада на предстоящем VI Всероссийском съезде работников юстиции. Основное содержание статьи - обоснование необходимости коренной реформы системы мест заключения и представление точки зрения НКЮ по этому вопросу Указываются основные причины потребности в реформировании: во-первых, «необходимость решительно устранить из ИТК, также как из УК и УПК, все то, что является отражением буржуазной юридической мысли (либеральный уклон) и что ослабляет или затушевывает классовый подход» [6]. При этом в качестве доказательства наличия такого уклона ссылается на постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения»; во-вторых, «необходимость приспособить к требованиям момента (решения XV съезда партии, постановление Правительства от 26 марта 1928 г.) как уголовно-судебную, так и исправительно-трудовую политику и практику. Наряду с этим текущий момент требует наиболее четкого классового подхода при проведении исправительно-трудовой политики»; в-третьих, «разрыв в руководстве уголовно-судебной и исправительно-трудовой политикой и практикой, породивший, в свою очередь, ряд крупней-
Теория и история государства и права ших недочетов как в той, так и в другой области: нереальность приговоров в отношении серьезных социально-опасных преступников, излишества в досрочном освобождении в отношении той же категории... и т. д.» [6]. Преодоление «разрыва» Ф. Траскович видит в передаче мест заключения в ведение НКЮ.
Основными источниками для написания «программной» статьи стали решения XV съезда партии и постановление Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения» [2]. В этом свете совершенно понятными становятся неоднократные и все более радикальные упоминания о классовом подходе. В постановлении «О карательной политике и состоянии мест заключения» отмечалось отсутствие в работе НКЮ и НКВД планомерной и достаточно выдержанной с классовой точки зрения политики в регулировании пребывания осужденных в местах заключения, необоснованные льготы для «классово-чуждых и социальноопасных элементов». Кроме того, в нем содержались важные политические установки: усиление репрессий к лицам, признаваемым классовочуждыми; ориентация мест заключения на решение хозяйственных задач [4, с. 227]. Это постановление рассматривают как начало отхода от положений, заложенных ИТК РСФСР 1924 г. [5, с. 263.] В свою очередь, постановление является отражением политических тенденций конца 1920-х гг. и, прежде всего, позиции И. В. Сталина и его сторонников на методы обеспечения экономического развития страны.
Были и иные политические факторы, оказавшие влияние на карательную политику в СССР. В 1927 г. в связи с ухудшением международной обстановки ОГПУ ужесточает режим по отношению к «буржуазным элементам». При политическом повороте влево ужесточается законодательство. 22 ноября 1926 г. сессия ВЦИК приняла новый Уголовный кодекс РСФСР, введенный в действие с 1 января 1927 г. В новый УК вошла и известная 58 статья (контрреволюционные преступления) [4, с. 223]. На реформу Уголовного кодекса как на еще одну причину необходимости реформы исправительно-трудового дела указывает и Ф. Траскович, добавляя: «Но даже независимо от реформы УК коренная реформа существующей исправительно-трудовой системы диктуется директивами правительства от 26 мар- та 1928 г., требующими коренного изменения состава заключенных» [6, c. 153].
В «Еженедельнике советской юстиции» в 1929 г. опубликована и статья Н. Лаговиер «Совещание пенитенциарных деятелей и тезисы НКЮ об очередных задачах исправительно-трудового дела». Рассматривая резолюции Первого Всесоюзного совещания пенитенциарных деятелей (ноябрь 1928 г.), автор обвиняет НКВД, практических работников ИТУ в «нездоровом оптимизме» при оценке состояния пенитенциарной системы, считая, что «резолюция совершенно не додумывает до конца тех резких изменений в системе исправительно-трудовых учреждений, которые неизбежно должны следовать из резкого изменения контингента заключенных и линии уголовносудебной политики» [1, с. 155]. Но главным аргументом становится то, что резолюции, по его мнению, совершенно не учитывают постановление ВЦИК и СНК от 26 марта 1928 г., которому придается политическое значение. Лаговиер вслед за Трасковичем отстаивает точку зрения НКЮ о несостоятельности исправительно-трудовых домов и замене их системой колоний, концлагерей и изоляторов с жестким режимом [1, c. 153].
Все эти положения были включены в доклад Ф. Трасковича на VI съезде прокурорских, судебных и следственных работников РСФСР, открывшемся 20 февраля 1929 г. [3]. В свою оче- редь начальник Главного управления мест заключения НКВД Е. Г. Ширвиндт в выступлении на съезде указал, что ГУМЗ НКВД в осуществлении своей деятельности опирается на закон. На что Траскович в заключительном слове ответил: «Мы ставим вопрос так, что устаревший закон должен быть изменен. Наши тезисы тесно увязаны с тезисами по УК. Мы отказываемся от исправдомов и выдвигаем изоляторы для наиболее опасных классовых преступников» [3]. Необходимо принять во внимание, что речь идет о «НЭПовском» исправительно-трудовом кодексе 1924 г., который в целом представлял собой нормативно-правовой акт с достаточно высоким гуманистическим потенциалом (другой вопрос, насколько удалось его реализовать) [4, c. 219] и иногда признается опередившим не только время 1920-х гг., но и нынешнее время [5, c. 262]. Однако кодекс 1924 г. не соответствовал политическим установкам, содержащимся в неоднократно указанном постановлении ВЦИК и СНК «О карательной политике и состоянии мест заключения» от 26 марта 1928 г.
Таким образом, представленная в статьях точка зрения НКЮ наглядно показывает, что побудительными мотивами к изменению исправительно-трудового законодательства являлись не достижения в теории и практике, а новые веяния во внутриполитическом курсе.
Список литературы Влияние изменений внутриполитического курса на пенитенциарную теорию и практику в конце 1920-х гг
- Лаговиер, Н. Совещание пенитенциарных деятелей и тезисы НКЮ об очередных задачах исправительно-трудового дела (к VI съезду работников юстиции)/Н. Лаговиер//Еженедельник совет. юстиции. -1929. -№ 7.
- О карательной политике и состоянии мест заключения: постановление [принято Всерос. Центр. исполн. комитетом и Советом нар. комиссаров РСФСР по докладам Нар. комиссариата юстиции и Нар. комиссариата внутр. дел 26 марта 1928 г.]//Еженедельник совет. юстиции. -1928. -№ 14. -С. 2.
- Прения по докладу и заключительное слово т. Трасковича//Еженедельник совет. юстиции. -1929. -№ 9-10. -С. 228-229.
- Рассказов, Л. П. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в советском государстве (1917-1941 гг.)/Л. П. Рассказов. -Уфа, 1994.
- Рассказов, Л. П., Упоров, И. В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы/Л. П. Рассказов, И. В. Упоров. -Краснодар, 1999.
- Траскович, Ф. Исправительно-трудовая политика/Ф. Траскович//Еженедельник совет. юстиции. -1929. -№ 7. -С. 152-155.