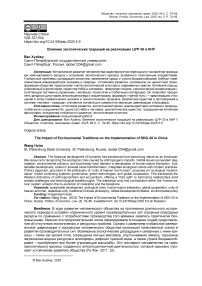Влияние экологических традиций на реализацию ЦУР-30 в КНР
Автор: Ван Хуэйжу
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Историческое развитие человечества характеризуется переходом от восприятия природы как неисчерпаемого ресурса к осознанию экологического кризиса, вызванного техногенным воздействием. Глобальные проблемы (деградация экосистем, загрязнение среды и утрата биоразнообразия) требуют пере-осмысления взаимодействия человека и природы. Устойчивое развитие, основанное на ценностной трансформации общества, предполагает синтез экологической культуры и современных практик. Китайский подход, укорененный в философии «единства Неба и человека», предлагает модель «экологической модернизации», сочетающую системное управление, «зелёные» технологии и глобальную кооперацию. Он позволяет преодолеть западную дихотомию антропоцентризма и экоцентризма, формируя «третий путь» – гармонизацию отношений в эпоху климатических вызовов и технологических прорывов. Диалектика единства и противоречий в системе «человек – природа» становится основой для coвместной эволюции цивилизации и биосферы.
Устойчивое развитие, экологический кризис, взаимодействие человека и природы, глобальное сотрудничество, единство Неба и человека, диалектическое единство, традиционная китайская философия, инициатива глобального развития, экологическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147921
IDR: 149147921 | УДК: 327:504 | DOI: 10.24158/pep.2025.5.9
Текст научной статьи Влияние экологических традиций на реализацию ЦУР-30 в КНР
В связи с этим в мировом масштабе развернулись разнообразные по объемам и формам экологические восстановительные инициативы. Их цели заключаются в защите существующих природных экосистем, комплексной реабилитации деградированных экологических систем, улучшении окружающей среды, повышении региональной продуктивности и достижении устойчивого развития.
Устойчивое развитие предполагает переход человечества от материально-потребительского общества к духовно-нравственной цивилизации, что влечет за собой революцию ценностей. Сущность ее заключается в духовной трансформации человеческой личности.
В обществе с активной экологической повесткой устойчивое развитие поддерживается комплексом механизмов, среди которых центральное место занимает экологическая культура как важнейший фактор взаимодействия человека и природы.
Особенность китайской экологической культуры заключается во внутреннем единстве человеческой природы и космоса, что находит выражение в философской концепции единства Неба и человека, глубоком понимании тайн жизни и мышления, а также взаимосвязи между человеком и природой (Тан Ицзе, 2005: 6). С точки зрения формирования и развития китайской экологической культуры, социально-философское осмысление ее роли как фактора оптимизации взаимодействия человека и природы сохраняет особую актуальность (Варакина, 2012).
Цель настоящего исследования заключается в анализе традиционных и современных предпосылок устойчивого развития китайского общества, а также в определении его специфики, места и роли в оптимизации взаимодействия человека и природы. Для ее реализации необходимо выполнение следующих задач:
-
1) исследовать исторический процесс гармоничного развития человека и природы;
-
2) осуществить комплексный анализ традиционной философской системы Китая;
-
3) конкретизировать актуальность экологической философии единства китайского человека и природы для современного устойчивого развития.
В работе впервые представлена традиционная философская система Китая как предпосылка формирования новой экологической культуры, а также определено ее значение в разрешении острых социально-экологических проблем современного мира.
Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы и выводы расширяют исследовательское поле изучения китайской экологической культуры в контексте социально-философских изысканий.
Методами работы стали: ретроспективно-аналитический, который использовался для изучения специфики исторического развития Китая в контексте достижения целей устойчивого развития; описательный – для репрезентации ключевых положений национальной философии взаимосвязи Неба и человека; анализа научной литературы по проблеме исследования; интегративный – для аккумуляции собственного произведенного и обнаруженного научного знания в соответствии с целью работы.
В качестве теоретической базы исследования послужили источники и трактовки традиционной философской мысли Китая (Цянь Сюнь, 1994; Тан Ицзе, 2005), публикации российских (Варакина, 2012; Сафронова, 2020; Стремовская, 2017; Шадиметов, Айрапетов, 2023), западных (Greider, 1997; Needham, 1954) и китайских (Лю, 2024; Чжань, 2019; Ли Бинсяо, 2005; Лу Фэн, 2011 и др.) ученых, посвященные проблеме взаимоотношений человека и природы, раскрытию принципов устойчивого развития человеческого общества в современном мире с учетом необходимости сохранения экологического баланса.
Исторический процесс гармоничного развития человека и природы . В ходе эволюции человеческой цивилизации взаимоотношения между людьми и природой, развиваясь параллельно с практической деятельностью человечества, постоянно углублялись. Они прошли через четыре этапа: от изначальной гармонии через нарастание противоречий к достижению нового уровня согласованного взаимодействия.
Первый этап. В период первобытного общества, в условиях низкого уровня развития производительных сил и ограниченных жизненных стандартов, зависимость людей, существовавших за счет природных ресурсов, от окружающей среды достигала крайних форм, включая сакрализацию природы. Деятельность человека ограничивалась удовлетворением базовых потребностей выживания, а использование примитивных технологий для добычи жизненно важных ресурсов оказывало минимальное воздействие на экосистемы. Вследствие этого отношения между человеком и природой в целом сохраняли изначальную гармоничную целостность.
Экстремально низкий уровень общественного производства (от палеолита до позднего неолита) обусловил абсолютную зависимость древних китайцев от природной среды, что сформировало архаичную натурфилософскую концепцию «взаимопроникновения божественного и человеческого» и «симбиотического единства материи и сознания». Как свидетельствует трактат
«Лицзи·Цзифа», «горы, леса, реки и долины, порождающие облака, дожди и диковинные явления, – все именуются божествами»1, что отражает антропоморфную модель восприятия природы в примитивном мышлении.
Несмотря на экологическую рациональность натурконцепций данного периода, их архаичная природа предопределила неизбежность трансформации под влиянием более развитых цивилизационных форм. Как отмечал археолог Чжан Гуанчжи в труде «Искусство, мифология и ритуалы», характерная для китайской первобытной натурфилософии черта «континуитетной цивилизации» заложила культурный фундамент для последующей систематизации доктрины «единства Неба и человека» (Chang, 1983).
Второй этап. В период аграрного общества рост численности населения и расширение зон хозяйственной деятельности привели к явлениям чрезмерной распашки земель и вырубки лесов. Особую остроту отношениям между человеком и природой придавали частые военные конфликты за контроль над водными и земельными ресурсами, что вызывало локальную и временную напряженность. Тем не менее в целом антропогенное воздействие на природу оставалось ограниченным, сохраняя относительную гармонию во взаимодействии ее и человека.
Третий этап. В индустриальный период развитие науки, технологий и товарного хозяйства позволило человечеству добиться колоссального роста материального благосостояния за счет познания и преобразования природы. Однако индустриализация также спровоцировала беспрецедентную эксплуатацию природных ресурсов. После Второй мировой войны капиталистические государства Запада, используя несправедливую систему международных политико-экономических отношений, разработали стратегию «экологического колониализма», суть которой состояла в переносе экологических издержек развития (истощение ресурсов, деградация сред обитания, снижение качества жизни) на страны «глобального Юга». Как отмечал американский исследователь У. Грейдер, «процветание и цивилизованность развитого капитализма были построены на хищнической эксплуатации ресурсной базы периферийных стран» (Greider, 1997).
В эпоху индустриализации развитых капиталистических стран масштабное потребление ресурсов и загрязняющие выбросы нарушили экологический баланс, что привело к резкому сокращению природных ресурсов и прогрессирующей деградации окружающей среды. Параллельно демографический взрыв глобального масштаба, стимулируя экспоненциальный рост антропогенной нагрузки на биосферу в процессе извлечения материальных благ, также способствовал превышению регенеративного потенциала экосистем. Это инициировало трансформацию изначально гармоничных антропо-природных отношений в систему нарастающих противоречий, нарушив диалектическое единство человека и природы.
Четвертый этап. С 1990-х гг. увеличение антропогенного давления – демографический взрыв, экологическое загрязнение и истощение невозобновляемых ресурсов – вынудило человечество переосмыслить прежние модели экономического развития. Еще в 1960–1970-х гг. публикация доклада «Пределы роста»2 ознаменовала кризис доверия к традиционным индустриальным парадигмам (Чэнь Хунчжао, Линь Цин, 2008: 72). Это стимулировало поиск устойчивых моделей развития в рамках экологической емкости биосферы, предполагающих коэволюционное взаимодействие человека и природы.
В 1970-х гг. американский институт Worldwatch впервые сформулировал новую концепцию развития, основанную на принципах устойчивости. В 1987 г. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED) в докладе «Наше общее будущее» официально закрепила концепцию устойчивого развития, подчеркивая необходимость соблюдения трех фундаментальных принципов – справедливости (удовлетворение потребностей одного поколения без ущемления возможностей будущих), устойчивости (соблюдение экологических пределов биосферы) и коллективной ответственности (глобальный характер экологических обязательств), – определивших развитие как процесс, который «удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» (Ли Биньсяо, 2005: 10).
Традиционная философская система Китая как предпосылка формирования новой экологической культуры . Китайская аграрная цивилизация, основанная на натуральном крестьянском хозяйстве, демонстрировала глубокое понимание природных закономерностей через ирригационные системы и сельскохозяйственный календарь. Это способствовало формированию философских концепций гармоничного сосуществования с природой. Чжуан-цзы артикулировал доктрину «единства Неба и человека»: «Небо и земля рождены со мной, все сущее составляет со мной единое целое»3. Данная концепция позднее была инкорпорирована в конфуцианство.
В философско-экологической парадигме Китая сформировался диалектический синтез даосского принципа «не нарушать естественный порядок человеческим произволом» и конфуцианского императива «содействовать преобразующей силе Неба и Земли», что концептуально воплощает дуализм недеяния и этического активизма в гармонизации антропоприродных отношений. Обе школы сходились в стремлении к гармонии, различаясь в методах: пассивное следование естественному порядку – у даосов и активное соучастие – у конфуцианцев.
Однако экологическая проблематика не занимала центрального места в конфуцианской доктрине ( Цянь Сюнь, 1994). От теории « резонанса Неба и человека » Дун Чжуншу (II в. до н.э.) до интерпретации « изучения вещей для обретения знания » Чжу Си (XII в.) и концепции « единства знания и действия » Ван Янмина (XV в.) конфуцианство акцентировало нравственное самосовершенствование, а не покорение природы.
В отличие от западной традиции антропоцентризма, китайская цивилизация, сформированная многовековой земледельческой экономикой, культивировала органическое мировоззрение, исключающее дуализм человека и природы. Аграрный уклад, основанный на принципе « зависимости от милостей Неба » , укреплял сакральное восприятие природы как целостного живого организма (Чэнь Юэхун, 2017).
В период правления династии Цин (1644–1912) движение за заимствование западных технологий осуществило насильственное внедрение механистической концепции природы Декарта в китайскую интеллектуальную традицию. Создание Цзяннаньского арсенала и Ханьянского железоделательного завода привело не только к импорту технологий, но и к инкорпорации западных научных методов и управленческих моделей, которые кардинально противоречили традиционным принципам органического мировоззрения и конфуцианской этики ремесленничества. Колониальная экспансия Запада спровоцировала разрыв традиционной парадигмы китайской натурфилософии, что привело к маргинализации органического мировоззрения «единства Неба и человека» (Needham, 1956: 582).
Первые два десятилетия XXI в. стали для Китая периодом стратегических возможностей и ключевой трансформационной фазы. В это время произошел переход от экстенсивной модели экономического роста, характерной для ранних этапов индустриализации, к интенсивному типу развития, сопровождаемому структурной перестройкой экономики от аграрной к промышленной основе.
Сегодня в Китае наблюдается аналогичная дисгармония в системе «человек – природа», проявляющаяся в триаде структурных противоречий: низкая эффективность утилизации природных ресурсов, демографический прессинг и прогрессирующая экологическая деградация. Для развивающейся страны-цивилизации синхронная реализация стратегических целей – всестороннего построения общества «сяокан» (умеренного процветания) и поддержания устойчивого роста внутреннего валового продукта (ВВП) – формирует уникальный вызов развития, который требует поиска баланса между экономической экспансией и экологической безопасностью в условиях глобальной климатической повестки.
В контексте вышеобозначенных критических вызовов достижение гармоничного взаимодействия человека и природы приобретает стратегическое значение для комплексного социоэко-логического развития. Принцип устойчивого развития, предполагающий взаимную координацию антропогенной деятельности и природных систем, естественным образом становится концептуальной основой и пререквизитом китайской модернизации (Сафронова, 2020). Только при условии научно обоснованного подхода, обеспечивающего баланс в системе «человек – природа», возможно создание прочного фундамента для прогресса в политической, экономической и культурной сферах, что в совокупности формирует предпосылки для цивилизационного скачка в рамках парадигмы всестороннего общественного совершенствования.
Актуальность экологической философии единства китайского человека и природы для современного устойчивого развития . Эволюция стратегии устойчивого развития в Китае представляет собой последовательный процесс институционализации экологических принципов. В 1993 г. КНР первой среди развивающихся стран провозгласила курс на устойчивое развитие. На пятом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) XIV созыва (1995 г.) Цзян Цзэминь обозначил контроль демографии, ресурсосбережение и экозащиту как стратегические приоритеты, подчеркнув необходимость синхронизации экономического роста с экологической емкостью.
Трансформация концепции произошла в 2003 г., когда III пленум ЦК КПК XVI созыва утвердил человекоцентричную парадигму комплексного развития. На XVIII съезде КПК была выдвинута общая концепция «пять в одном» и новые концепции развития «инновации, согласование, зеленое развитие, открытость, совместное использование». На XIX съезде КПК реализация стратегии устойчивого развития была включена в число семи стратегий Китая.
Парадигмальный сдвиг произошел в 2013 г., когда на III пленуме ЦК КПК XVIII созыва Си Цзиньпин выдвинул концепцию «экологической цивилизации», подняв «зеленую» повестку на уровень цивилизационного выбора. В 2015 г. принятие нового закона «Об охране окружающей среды»1 и представление ООН «Национального плана Китая по реализации Повестки устойчивого развития до 2030 г.»2 обозначили переход к системной интеграции внутренней и глобальной экополитики. Реформа вертикального управления экологическими органами (2016) усилила административный потенциал, а включение тезиса «Зелёные горы – золотые горы» в Устав КПК (2017) придало экологической доктрине идеологический статус (Хуан Цзин, 2019).
На современном этапе китайская модель экомодернизации демонстрирует глобальное лидерство: обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 г. (2020), инициатива создания сообщества единой судьбы человечества и природы (2021), а также предложения по реформированию глобальной системы климатического управления на 76-й сессии ГА ООН (2022) формируют альтернативную архитектуру устойчивого развития, сочетающую технологический прогресс с философией даосско-конфуцианского космизма3.
Данная модель развития осуществила двойной прорыв: преодолела линейную парадигму Запада «сначала загрязнение – потом очистка» и реконфигурировала этику развития через философию «сообщества единой судьбы». С одной стороны, на внутреннем уровне реализуется трансформация экологической ценности посредством «теории двух гор» (экосистемные услуги как экономический актив), с другой – на глобальном уровне инициатива глобального развития разрешает тупик климатического противостояния «Север – Юг».
Практический опыт Китая демонстрирует, что устойчивое развитие представляет собой не только оптимизацию технологических траекторий, но и цивилизационный парадигмальный сдвиг, предлагающий развивающимся странам системное решение проблемы «совместимости экозащиты с экономическим ростом». Это способствует трансформации глобального управления от архаичной модели «игры с нулевой суммой» к прогрессивной концепции «взаимозависимой судьбы человечества».
Заключение . Природа представляет собой объективную реальность, существующую относительно человека. В системе отношений «человек – природа» природно-географическая среда выступает фундаментальной основой существования человеческой цивилизации, одновременно подвергаясь преобразованию со стороны людей как субъектов деятельности. С позиций материалистической диалектики данная взаимосвязь воплощает диалектическое единство противоположностей – взаимозависимость и конфликтную сопряженность. Антропогенез демонстрирует двойственную природу человека: будучи продуктом эволюции природы, он одновременно противостоит ей, формируя динамическую систему коэволюционного взаимодействия. История человечества предстает как процесс взаимной трансформации социума и биосферы, определяющий совместную эволюцию антропоприродных систем4.
В этом контексте китайская модель, трансформирующая традиционную концепцию «единства Неба и человека» в современные управленческие парадигмы («управление сложными системами», «зеленые технологические инновации», «глобальное распределение ответственности»), демонстрирует актуальность древней философии в эпоху антропоцена. Данный путь «восточной экологической модернизации», преодолевая бинарную оппозицию западного антропоцентризма и экоцентризма, предлагает «третий путь» глобальной устойчивости. В условиях квантовых вычислений и климатического коллапса он реконфигурирует онтологические основания отношений человека и природы, интегрируя холистическое мировоззрение с технологическим прогрессом.
В процессе исторического развития и непрерывной эволюции человека и природы Китай, преобразуя философскую концепцию «единства Неба и человека» в системную управленческую структуру, продемонстрировал жизнеспособность традиционной мудрости в современности (Ху Цзянь-дун, У Хунчжэн, 2024). Этот «восточный путь экологической модернизации», основанный на опыте китайской экологической политики, сформировал новую парадигму взаимодействия человека и природы в контексте международных отношений: через создание синергетического механизма внутреннего экологического управления и международной экодипломатии Китай интегрировал цели устойчивого развития в логику поведения суверенных государств. Это проявляется как в поддержании динамического баланса между экономическим ростом и экозащитой внутри страны, так и в продвижении принципа «общей, но дифференцированной ответственности» (Гун Юйтао, Ван Сянься, 2024) в глобальном климатическом управлении. Данная практика преодолела западную бинарную оппозицию «антропоцентризма» и «экоцентризма», предложив миру «третий путь» – трансформацию суверенных экологических компетенций в международные общественные блага. При этом, уважая различия в стадиях развития стран, Китай способствует формированию новых форм международного сотрудничества, основанных на ресурсной емкости экосистем и межпоколенческой справедливости. Концепция «сообщества жизни человека и природы», возникшая из этой логики, переосмысливает роль суверенных государств в глобальном экологическом управлении, предлагая реалистичный подход к достижению устойчивого развития, сочетающий этическую легитимность и политическую осуществимость.