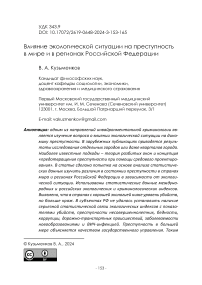Влияние экологической ситуации на преступность в мире и в регионах Российской Федерации
Автор: Кузьменков В. А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Одним из направлений инвайронментальной криминологии является изучение вопроса о влиянии экологической ситуации на динамику преступности. В зарубежных публикациях приводятся результаты исследования отдельных городов или даже кварталов города. Наиболее известные подходы - теория разбитых окон и концепция «предотвращения преступности при помощи средового проектирования». В статье сделана попытка на основе анализа статистических данных изучить различия в состоянии преступности в странах мира и регионах Российской Федерации в зависимости от экологической ситуации. Использованы статистические данные международных и российских экологических и криминологических индексов. Выявлено, что в странах с хорошей экологией ниже уровень убийств, но больше краж. В субъектах РФ не удалось установить наличие серьезной статистической связи экологических индексов с показателями убийств, преступности несовершеннолетних, бедности, коррупции, дорожно-транспортных происшествий, заболеваемости новообразованиями и ВИЧ-инфекцией. Преступность в большей мере объясняется качеством государственного управления. Таким образом, нельзя говорить о существовании статистически обоснованных тенденций влияния хорошего экологического состояния на снижение преступности.
Инвайронментализм, окружающая среда, преступность, теория разбитых окон, убийства, экология
Короткий адрес: https://sciup.org/147244120
IDR: 147244120 | УДК: 343.9 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-3-153-165
Текст научной статьи Влияние экологической ситуации на преступность в мире и в регионах Российской Федерации
Б лагоприятное экологическое состояние региона России снижает в нем уровень преступности, а неблагоприятное – повышает. К такому выводу автор пришел в одном из своих исследований1. Это утверждение претендует на всеобщность и потому должно быть проверено на более широкой базе. Су‐ ществует ли зависимость между экологической ситуацией и преступностью? Указанная проблема изучалась в зарубежной криминологии, поэтому рассмот‐ рим ее основные концепции для выяснения сущности связи окружающей среды и противоправного поведения человека.
Инвайронментальный подход к пониманию преступности зародился и по сей день развивается на стыке социологии города, социальной экологии, криминологии и урбанистики. Первые исследования в этом контексте были проведены в Чикагской школе социологии (например, Э. Бёрджессом) и полу‐ чили развитие у американского урбаниста Дж. Джекобс, которая детально изучала градостроительные принципы безопасности человека в городе. Ее точка зрения была подтверждена трагедией квартала Прюитт‐Айгоу в амери‐ канском городе Сент‐Луис. Во многом под ее влиянием в 1970–80‐е годы в США формируются четыре подхода: теория рутинных действий, теория ра‐ ционального выбора, концепция «предотвращения преступности при по‐ мощи средового проектирования» (crime prevention through environmental design, CPTED 2 ) и теория разбитых окон. Третий и четвертый подходы в боль‐ шей мере концентрируются на влиянии экологии на преступность, поэтому рассмотрим их подробнее.
Основоположниками CPTED стали криминолог С. Рэй Джеффри и архи‐ тектор О. Ньюман, положивший начало теории защищающего пространства. С. Рэй Джеффри предложил важную идею: окружающая среда никогда не вли‐ яет на поведение напрямую, а только через изменения в мозге человека. Необходимо заботиться об экологической чистоте города, в частности удале‐ нии свинца из его биосистемы, поскольку тот разрушает лобную кору мозга, отвечающую за самоконтроль и следование общественным правилам3. О. Ньюман исследовал взаимосвязь между правонарушениями и городским дизайном, сформулировав ряд архитектурных принципов по предотвраще‐ нию преступности4.
Теория разбитых окон говорит: видимые признаки преступности, анти‐ социального поведения и беспорядка создают городскую среду, которая по‐ ощряет дальнейшие правонарушения и беспорядки5, в том числе серьезные преступления. Полицейская деятельность, направленная на предотвращение мелких преступлений, помогает создать атмосферу порядка и законности, тем самым предотвращая тяжкие преступления6. Теория была реализована в Ат‐ ланте, Нью‐Йорке, Чикаго, Лос‐Анджелесе и ряде других городов; при этом под‐ вергнута многочисленным обсуждениям и проверкам, одни из которых свиде‐ тельствовали в пользу теории7, другие – против8. Противники теории упрекают ее защитников в искажении статистических данных, отсутствии эмпирического базиса и игнорировании других факторов сокращения преступности. По мнению критиков теории, беспорядок на улицах снижает социально‐психологическую удовлетворенность от жизни в квартале и препятствует групповой солидарно‐ сти, вредит социально‐экономическому развитию и общей жизнеспособности района, что приводит к миграции образованного, экономически активного и за‐ конопослушного населения и его замещению маргиналами. Рост преступности наблюдается как следствие этих причин, но не беспорядка самого по себе9.
В описанных выше подходах встречается термин «экологический», кото‐ рый используется для характеристики городского пространства как места пре‐ ступления. Такая интерпретация является слишком узкой, поскольку недоста‐ точно учитывает природные факторы и, по сути, сводит экологическую систему к антропогенной среде. Неоднократно предпринимались попытки преодоле‐ ния такого рода ограничений, и в основном посредством изучения влияния объемов растительности в жилых кварталах на преступность. Было установ‐ лено, что в «зеленых» районах ниже уровень вандализма и агрессии10, реже развивается болезнь Альцгеймера11, жители более дружелюбны, испытывают большее чувство безопасности и меньше устают12, а преступность сокраща‐ ется примерно наполовину13. Однако все эти исследования проводились на микроуровне.
Итак, существует проблема: влияет экология на преступность или нет на макро‐ и мегауровне? Необходимо сосредоточиться на проблеме влияния экологического состояния на динамику преступности в масштабе отдельной страны и мира в целом. Цель исследования – изучение взаимосвязи преступ‐ ности и экологической ситуации. Объект исследования – преступность, пред‐ мет исследования – влияние экологической ситуации на динамику преступно‐ сти. Гипотеза: благополучное экологическое состояние понижает преступность, негативное – повышает.
Гипотеза может быть проверена на глобальном и национальном уров‐ нях при помощи статистики. С 2002 года Йельским университетом составля‐ ется Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI)14, который показывает экологическое состояние разных стран мира. В Рос‐ сии экологический рейтинг рассчитывается общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль»15. Он состоит из природоохранного, соци‐ ально‐экологического и промышленно‐экологического индексов. В исследо‐ вании использовались средние данные за 2008–2018 годы, а также отдельно
КУЗЬМЕНКОВ В. А. _______________________________________________________________ проводились расчеты по усредненным данным за период с 2014 по 2018 год. Экологические рейтинги играли роль независимых переменных.
Для изучения взаимосвязи нарушений правопорядка и экологической ситуации на глобальном уровне были применены показатели (из расчета на 100 тыс. жителей) умышленных убийств (1995–2016 гг.), краж (2003–2016 гг.)16 и смертности от наркотиков (для последнего показателя данные по каждой стране различаются по годам и представляют собой единичные измерения, а не динамический ряд)17. Из 264 стран, организаций и регионов, доступных в базе данных Всемирного банка, были отобраны 107 государств; при этом исключены страны с полностью отсутствующими или крайне малочислен‐ ными сведениями, а в оставшихся странах отсутствующие данные заменены средним показателем по ряду.
Для изучения преступности на национальном уровне привлекались дан‐ ные Министерства внутренних дел России по 83 регионам Российской Феде‐ рации, находящиеся в Единой межведомственной информационно‐статисти‐ ческой системе (ЕМИСС). Они отбирались за одиннадцать лет, с 2008 по 2018 год. Использовались первичные абсолютные данные, пересчитанные в пока‐ затель соотношения на 100 тыс. человек. В качестве зависимых переменных выступили: общее число преступлений; убийства; кражи; преступления, совер‐ шённые в состоянии алкогольного опьянения; преступления, совершённые в состоянии наркотического опьянения; преступления, совершённые несовер‐ шеннолетними; рецидивная преступность; число коррупционных преступле‐ ний; число дорожно‐транспортных происшествий (ДТП); число самоубийств; число заболевших новообразованиями; число абортов; число ВИЧ‐инфициро‐ ванных; число разводов; процент бедных. Чисто криминальная статистика была дополнена показателями общих социальных патологий с целью расши‐ рения предметного поля анализа: представляется, что экологические про‐ блемы связаны не только с правонарушениями, но и с социальной аномией – самоубийствами, абортами, разводами, бедностью и пр. Все вычисления проводились в системе IBM SPSS Statistics 23.0.
Лучшая экология и самый низкий уровень убийств – в странах Европы, а также в Австралии и Новой Зеландии; наихудшая экологическая ситуация наблюдается в странах Африки и Азии. Кражи также наиболее присущи стра‐ нам Европы, Австралии и Новой Зеландии. Наивысший уровень насилия со смертельным исходом – в странах Северной и Центральной Америки, при этом «вклад» собственно США и Канады минимален, а патологически высокие показатели убийств демонстрируют маленькие государства Кариб‐ ского бассейна: Белиз, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Ямайка. Статистические данные представлены ниже в таблице.
Статистика показателей по регионам (100 тыс. человек)
|
Регион |
Экология |
Убийства |
Кражи |
|
Европа |
72,69 |
2,39 |
1 231,47 |
|
Азия |
59,60 |
4,40 |
436,03 |
|
Африка |
55,07 |
7,10 |
438,28 |
|
Северная и Центральная Америка |
65,32 |
25,73 |
655,32 |
|
Южная Америка |
64,81 |
14,54 |
791,60 |
|
Австралия и Новая Зеландия |
76,11 |
1,65 |
2 114,12 |
Описательный анализ не позволяет выявить линейную зависимость; можно только отметить, что в странах с хорошей экологией ниже уровень убийств, но чаще случаются кражи, а насильственные смерти чаще всего про‐ исходят в регионах со средними показателями экологии. Связь между преступ‐ ностью и экологической ситуацией неочевидна, и необходимо обратиться к корреляционному и регрессионному моделированию.
Корреляционный анализ показал, что в странах с хорошей экологией ниже уровень убийств (коэффициент корреляции Пирсона18 R = 0,231, p ≥ 0,016), но выше число краж (R = 0,600, p ≥ 0,000) и смертность от наркотиков (R = 0,395, p ≥ 0,000) (хотя в силу особенностей данных о смертности от наркотиков дове‐ рять этому выводу нужно осторожно). При проведении линейного регресси‐ онного анализа использовался метод наименьших квадратов с одновремен‐ ным включением всех предикторов, оценкой доверительного интервала и вычислением статистики Дарбина – Уотсона для проверки на автокоррелиро‐ ванность. Были построены две модели невысокого качества: первая объяснила всего 4,4 % дисперсии19, вторая – 35,4 %, показатели t‐статистики Стьюдента (–2,440 и 7,724) и F‐статистики Фишера (5,9 и 59,653) продемонстрировали низкие значения. Все это не позволяет принять полученные модели.
Результаты анализа по международным данным свидетельствуют: во‐ первых, число убийств в регионах с хорошей экологией сокращается незначи‐ тельно, во‐вторых, в более экологичных странах выше уровень краж. В целом нет оснований утверждать, что хорошая или плохая экологическая ситуация существенно влияет на динамику преступности.
Напрашивается объяснение об опосредованности и преступности, и эко‐ логии какой‐то внешней причиной. И экология, и правонарушения зависят от качества государственного управления, поэтому необходимо обратиться к его изучению. Здесь используем показатели эффективности Всемирного банка (Worldwide Governance Indicators, WGI)20, включающие шесть параметров: 1) учет мнения населения и подотчетность государственных органов; 2) поли‐ тическую стабильность и отсутствие насилия; 3) эффективность работы прави‐ тельства; 4) качество законодательства; 5) верховенство закона; 6) сдержива‐ ние коррупции.
По данным корреляционного анализа, усредненный показатель убийств слабо отрицательно и статистически значимо коррелирует со всеми этими па‐ раметрами, кроме первого. Регрессионные модели объясняют не более 28,8 % дисперсии, что свидетельствует о многофакторности криминального насилия. Усредненный EPI как раз показывает статистически значимую и сильную кор‐ реляцию со всеми параметрами WGI. Регрессионный анализ демонстрирует наибольшее влияние на хорошее экологическое состояние учета мнения насе‐ ления и подотчетности госорганов и эффективности работы правительства (63,4 % дисперсии, F‐критерий равен 93,69). Это как раз и говорит о зависимо‐ сти экологической ситуации от государственной политики и институтов граж‐ данского общества. Отметим еще один факт: средний показатель краж зна‐ чимо и сильно коррелирует со всеми параметрами WGI. Таким образом, напрашивается общий вывод: более эффективные во всех смыслах государ‐ ства имеют меньший уровень убийств, но более высокие показатели краж и хорошую экологию.
Возможно, иная тенденция проявится на национальном, российском, уровне. Показатели преступности известны из ежемесячных отчетов Мини‐ стерства внутренних дел Российской Федерации, поэтому не будем на них останавливаться. Наихудшая экологическая ситуация наблюдается в Ураль‐ ском федеральном округе, где находятся два самых загрязненных субъекта
России – Челябинская и Свердловская области. Практически все регионы характеризуются невысокими показателями промышленно‐экологического индекса, что свидетельствует о недостатке экологически ориентированного производства, слабой заинтересованности производителей в защите окружа‐ ющей среды и чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Лучшие в эко‐ логическом отношении субъекты – это Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чукотский автономный округ, тогда как к худшим относятся уже упоминавшиеся выше Челябинская и Свердловская, а также Тульская, Московская и Курганская области.
Корреляционный анализ по средним показателям за весь период по ре‐ гионам страны показал следующее:
– в регионах с высоким промышленно‐экологическим индексом ниже уровень убийств (R = –0,305, уровень значимости p ≥ 0,005);
– высокие значения промышленно‐экологического индекса также со‐ кращают ДТП (R = –0,401, p ≥ 0,000);
– в регионах с хорошей природной ситуацией бедность выше (R = 0,422, p ≥ 0,000), но при улучшении положения региона в социально‐экологическом и промышленно‐экологическом индексе она сокращается (соответственно R = –0,301, p ≥ 0,006 и R = –0,312, p ≥ 0,004);
– коррупция уменьшается при высоких показателях природоохранного индекса (R = –0,443, p ≥ 0,000) и возрастает вместе с показателями промыш‐ ленно‐экологического индекса (R = 0,291, p ≥ 0,008);
– новообразования (R = –0,234, p ≥ 0,034) и случаи заболевания ВИЧ‐ инфекцией (R = –0,401, p ≥ 0,000) реже в регионах с высокими значениями при‐ родоохранного индекса;
– в регионах с высокими показателями промышленно‐экологического индекса выше уровень разводов (R = 0,246, p ≥ 0,025).
Отдельно проанализировав средние данные за последние пять лет (2014–2018), можно сформулировать еще три вывода, отчасти пересекающиеся с вышеизложенными:
– ДТП возрастают соответственно положению в природоохранном ин‐ дексе (R = 0,247, p ≥ 0,025) и уменьшаются при росте промышленно‐экологи‐ ческого индекса (R = –0,438, p ≥ 0,000). Если второй тренд уже известен, то по‐ явление первого может быть связано с ухудшением качества автомобильных дорог в экономически отстающих регионах;
– коррупция реже при высоких показателях природоохранного индекса (R = –0,430, p ≥ 0,000) и возрастает вместе с показателями социально‐экологи‐ ческого индекса (R = 0,231, p ≥ 0,035);
– развитая социально‐экологическая инфраструктура снижает преступ‐ ность несовершеннолетних (R = –0,280, p ≥ 0,011).
При проведении регрессионного анализа были построены модели, свя‐ зывающие промышленно‐экологический индекс с уровнями убийств и до‐ рожно‐транспортных происшествий, бедность – с природоохранным и соци‐ ально‐экологическими индексами, показатели коррупции – с природоохран‐ ным индексом. Но ни одна модель не объясняет более 21 % дисперсии и не имеет высоких показателей t‐статистики Стьюдента и F‐статистики Фишера. Это свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между экологическим состоянием региона и преступностью в России.
Следует обратить внимание на невысокое качество полученных регрес‐ сионных моделей; корреляционный анализ как метод вообще мало что доказы‐ вает и скорее отображает общие тенденции, в основе которых могут лежать бо‐ лее серьезные процессы. Экологические индексы коррелируют избирательно с некоторыми показателями, никак не влияя на общий уровень преступности или преступлений, совершённых в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Все это не позволяет однозначно подтвердить выдвинутую гипотезу.
Многие цитированные выше работы отмечают факт сокращения числа правонарушений в экологически чистых районах. По всей видимости, объясне‐ нием этому могут быть социально‐экономические причины, к которым можно отнести следующие положения:
-
1. С точки зрения стратегии crime prevention through environmental design преступники подсознательно чувствуют, что за территорией следят, даже ко‐ гда нет фактических наблюдателей. Порядок в окружающей среде посылает сигнал о том, что соблюдение законов контролируется и преступное поведе‐ ние недопустимо. И наоборот, наличие беспорядка (разбитые окна, мусор, граффити и пр.) свидетельствует об отсутствии защиты окружающей среды и малой вероятности обнаружения и наказания преступного поведения.
-
2. Ухоженные городские кварталы говорят о хорошей социальной ко‐ операции и развитом социальном капитале. Жители чаще общаются друг с другом, отличаются большей сплоченностью и доверием и потому реже со‐ вершают бытовые преступления. Квартал их проживания является «вторым домом», беспорядок в котором недопустим.
-
3. Люди, много находящиеся на свежем воздухе, гораздо реже страдают от нервного напряжения, умственной отсталости, раздражительности, невни‐ мательности, стрессов и депрессии, быстрее восстанавливаются после заболе‐ ваний и вообще меньше болеют, реже испытывают чувство одиночества, чаще переживают положительные эмоции; у них улучшается мозговая и сердечно‐ сосудистая деятельность, снижается уровень враждебности и агрессии, что является прямым фактором профилактики преступности.
-
4. Хорошая экологическая ситуация уменьшает негативные химические и физические воздействия на человеческий мозг и предотвращает агрессивность человека, настраивает его на соблюдение социальных норм, минимизирует бытовые и общественные конфликты, повышает общий уровень здоровья.
Хорошая экологическая ситуация не связана сколько‐нибудь статистиче‐ ски значимо с числом убийств (как наиболее показательных преступлений) в России и в мире. При анализе связи экологической ситуации и уровня пре‐ ступности целесообразно учитывать значительный временной лаг, не менее пятнадцати‐двадцати лет. По этой причине исследования, утверждающие наличие прямой и краткосрочной связи между преступностью и экологией, со‐ вершают методологическую ошибку. Также они чаще всего ограничиваются микроуровнем – городом или его кварталом. В конкретных условиях город‐ ской среды преступность может быть «выдавлена» в менее благополучные районы или попросту ликвидирована в результате общественных и экономи‐ ческих преобразований. Колумбийское исследование показывает, что теория разбитых окон если и работает, то лишь для кварталов с невысоким уровнем правонарушений и без организованной преступности21. В целом средовое проектирование рассматривается как эффективный способ превенции пре‐ ступлений только в связи с иными мерами социально‐экономической и право‐ вой направленности22.
То обстоятельство, что в субъектах Российской Федерации с хорошей экологией уменьшаются коррупция, ДТП, преступность несовершеннолетних, заболеваемость онкологическими новообразованиями и ВИЧ‐инфекцией, мо‐ жет быть объяснено рядом иных причин, прежде всего социально‐экономиче‐ ских. С другой стороны, отдельные факты, например установление корреля‐ ции между преступностью несовершеннолетних и некоторыми показателями социальной аномии, представляют интерес для дальнейших работ.
Отсутствие аргументов, основанных на использовании статистических данных государственного и международного масштаба, не означает невоз‐ можности связи между преступностью и экологией в принципе. Однако для ее выявления необходимы междисциплинарные исследования, сочетающие инструментарий криминологии, социологии и нейрофизиологии.
Список литературы Влияние экологической ситуации на преступность в мире и в регионах Российской Федерации
- Бытко С. Ю., Варыгин А. Н. Некоторые методологические вопросы оценки эффективности предупредительного воздействия уголовных наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. Вып. 43. C. 146–177.
- Кузьменков В. А. Криминальная аномия как социальная проблема // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 96–105.
- Национальный экологический рейтинг // Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»: офиц. сайт. URL: https://greenpatrol.ru/stranica‐dlya‐obshchego‐reytinga.
- Alves Diniz A. M., Stafford M. C. Graffiti and Crime in Belo Horizonte, Brazil: The Broken Promises of Broken Windows Theory // Applied Geography. 2021. Vol. 131. Art. 102459.
- Harcourt B. E., Ludwig J. Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five‐City Social Experiment // The University of Chicago Law Review. 2006. Vol. 73. Pp. 271–320.
- Jeffery C. R. Criminology: An Interdisciplinary Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice‐Hall, 1990.
- Kaplan S., Kaplan R. Health, Supportive Environments, and the Reasonable // American Journal of Public Health. 2003. Vol. 93, № 9. Pp. 1484–1489.
- Keizer K., Lindenberg S., Steg L. The Spreading of Disorder // Science. 2008. Vol. 322, № 5908. Pp. 1681–1685.
- Kelling G. L., Sousa W. H. Do Police Matter? An Analysis of the Impact of New York City’s Police Reforms // Civic Report. 2001. № 22. URL: https://media4.manhattan‐institute.org/pdf/cr_22.pdf.
- Kelling G. L., Wilson J. Q. Broken Windows. The Police and Neighborhood Safety // Atlantic Monthly. 1982. March. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken‐windows/304465/.
- Kuo F. E., Sullivan W. C. Aggression and Violence in the Inner City: Impacts of Environment and Mental Fatigue // Environment and Behavior. 2001. Vol. 33, № 4. Pp. 543–571.
- Kuo F. E., Sullivan W. C. Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime? // Environment and Behavior. 2001. Vol. 33, № 3. Pp. 343–367.
- Mejía D., Norza E., Tobón Zapata S., Vanegas‐Arias M. Broken Windows Policing and Crime: Evidence from 80 Colombian Cities // A Modern Guide to the Economics of Crime / Ed. by P. Buonanno, P. Vanin, J. Vargas. Edward Elgar Publishing, 2022. Pp. 55–87.
- Mooney P., Nicell P. L. The Importance of Exterior Environment for Alzheimer Residents: Effective Care and Risk Management // Healthcare Management Forum. 1992. Vol. 5, № 2. Pp. 23–29.
- Newman O. Creating Defensible Space. Philadelphia: DIANE Publishing, 1996.
- Ren L., Zhao J. S., Luo F. In Search of Public Perceptions of Disorder and Crime: Examining the Core Tenets of Broken Windows Theory // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2022.
- Sampson R. J., Raudenbush S. W. Systematic Social Observation of Public Spaces: A New Look at Disorder in Urban Neighborhoods // American Journal of Sociology. 1999. Vol. 105, № 3. Pp. 603–651.
- Skogan W. G. Disorder and Decline: The State of Research // Journal of Research in Crime and Delinquency. 2015. Vol. 52, № 4. Pp. 464–485.
- Taylor R. B. Breaking Away from Broken Windows: Baltimore Neighborhoods and the Nationwide Fight Against Crime, Grime, Fear, and Decline. Boulder, Colo.: Westview Press, 2001.
- Wichers J., Bakker M. Broken Windows, Mediocre Methods, and Substandard Statistics // Group Processes and Intergroup Relations. 2013. Vol. 17, № 3. Pp. 388–403.
- Wiggins D. “Order as well as Decency”: The Development of Order Maintenance Policing in Black Atlanta // Journal of Urban History. 2020. Vol. 46, № 4. Pp. 711–727.