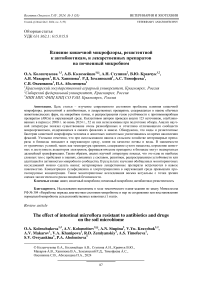Влияние кишечной микрофлоры, резистентной к антибиотикам, и лекарственных препаратов на почвенный микробиом
Автор: Коленчукова О.А., Коломейцев А.В., Ступина А.Н., Кравчук В.Ю., Макаров А.В., Ханипова В.А., Землянский Р.Д., Тимофеева А.С., Овсянкина С.В., Аболенцева П.А.
Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau
Рубрика: Ветеринария и зоотехния
Статья в выпуске: 3 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - изучение современного состояния проблемы влияния кишечной микрофлоры, резистентной к антибиотикам, и лекарственных препаратов, содержащихся в навозе обычных животноводческих ферм, на микробиом почвы, и распространения генов устойчивости к противомикробным препаратам (ARGs) в окружающей среде. Коллективом авторов проведен анализ 123 источников, опубликованных в период с 2000 г. по июнь 2024 г., 52 из них использованы при подготовке обзора. Анализ научной литературы показал существование очень разнообразных и отчетливо отличающихся сообществ микроорганизмов, содержащихся в свежих фекалиях и навозе. Обнаружено, что виды и резистентные бактерии кишечной микрофлоры человека и животных значительно увеличивались во время накопления фекалий. Учеными отмечено, что при использовании навоза в сельском хозяйстве ветеринарные препараты и биоциды попадают в окружающую среду, влияя на качество почвы и воды. В зависимости от граничных условий, таких как температура хранения, содержание сухого вещества, кормление животных и доступность акцепторов электронов, фармацевтические препараты и биоциды могут подвергаться дальнейшей трансформации. Таким образом, анализ научной литературы показал, что это одна из наиболее сложных тем с пробелами в знаниях, связанных с составом, развитием, распространением устойчивости или адаптацией и активностью микробного сообщества. В результате изучения обобщенных мониторинговых исследований можно сделать вывод: ветеринарные лекарственные препараты встречаются в навозе повсеместно. Концентрации сульфадиазина и хлортетрациклина в окружающей среде превышали прогнозируемые концентрации. Такие мониторинговые исследования весьма актуальны с точки зрения оценки экологического риска пищевой безопасности.
Навоз, кишечный микробиом, почвенный микробиом, антибиотики, резистентность
Короткий адрес: https://sciup.org/142242317
IDR: 142242317 | УДК: 631.862.1:
Текст обзорной статьи Влияние кишечной микрофлоры, резистентной к антибиотикам, и лекарственных препаратов на почвенный микробиом
Gratitude. The research was carried out during the implementation of the thematic task plan commissioned by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 304 «Development of the procedure for diagnosing the state of microbiota and measures to preserve or restore normal microbiota of farm animals (stage 1)».
Актуальность
Распространение антимикробных препаратов в окружающей среде представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения, поскольку они могут быть интегрированы в мобилизуемые генетические элементы, такие как плазмиды или транспозоны, и распространяться посредством горизонтального переноса генов среди бактерий, включая патогенные и непатогенные [1–3]. Навоз, получаемый при традиционных системах животноводства, широко используется в сельском хозяйстве для улучшения качества почвы и в качестве органического удобрения для обогащения почвы азотом и увеличения содержания органических веществ [4]. Однако микробные сообщества в навозе могут оказывать влияние на почвенный микробиом либо непосредственно через конкуренцию, либо косвенно, распространяя гены устойчивости к противомикробным препаратам. Степень влияния микробиома навоза на почвенное микробное сообщество остается неясной. Хотя в некоторых исследованиях показано, что внесение органических удобрений значительно изменяет микробиом почвы [5–7], в других исследованиях сообщалось об изменениях, ограниченных несколькими таксонами, в то время как основной микробный состав почвы остается неизменным [8]. Противомикробные препараты уже несколько десятилетий широко используются в традиционном животноводстве. В то время как некоторые из них практически не метаболизируются в организме животного и выводятся как таковые, другие метаболизируются и выводятся в виде активных или неактивных метаболитов с мочой и калом [9]. После внесения удобрений в почву остатки антимикробных препаратов могут распространяться в окружающую среду, потенциально вызывая появление устойчивых бактерий и генов устойчивости к противомикробным препаратам [10–12]. Действительно, распространяя гены устойчивости к противомикробным препаратам,
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY попадающие в окружающую среду потенциально могут передаваться людям через водные пути, сточные воды и канализационные стоки.
Цель статьи – изучение современного состояния проблемы влияния кишечной микрофлоры и распространения резистентных к антибиотикам и лекарственным препаратам бактерий, содержащихся в навозе с обычных животноводческих ферм на микробиом почвы, и распространения генов устойчивости к противомикробным препаратам в окружающей среде.
Методы исследования
Для формирования обзорной статьи использовались поисковые системы, такие как «Google Scholar», «Web of Science» и «Pubmed». Для логического поиска использованы наиболее релевантные ключевые слова, представленные в статье. Рассмотрены международные публикации с 2000 г. по настоящее время. Кроме того, оценены перекрестные ссылки на найденные публикации.
Оценка распространенности кишечной микрофлоры, резистентной к антибактериальным препаратам в свежих фекалиях и навозе
По прогнозам, во всем мире применение противомикробных препаратов для домашнего скота возрастет с более чем 60 000 т. в 2010 г. до более чем 105 000 т к 2030 г. [3]. Хорошо известно, что использование антимикробных препаратов (АМП) может повысить уровень устойчивых к антибиотикам бактерий или генов устойчивости к антибиотикам в навозе [3; 4], это может привести к пролиферации резистентных бактерий и генов устойчивости в почве после внесения [7]. В научной литературе описан перенос резистентных бактерий из источников окружающей среды на поверхность фруктов и овощей, особенно употребляемых в сыром виде, это может служить связующим звеном между генами устойчивости из окружающей среды и резистентными бактериями, приобретенными человеком и содержащимися в микробиоме кишечника животных. Учеными выявлено, что тетрациклин-резистентная Escherichia coli , выделенная из розничной салатной зелени, также содержала плазмиды устойчивости, кодирующие устойчивость к бета-лактамам, тетрациклинам и хинолонам. Грамотрицательные резистентные бактерии, несущие интегрон-ассоциированные гены устойчивости, такие как mcr-1 и tem-1, были идентифицированы на готовых к употреблению продуктах в Португалии [7; 12].
Анализ научной литературы показал, что бактерии, находящиеся в навозе, не выживают в почве, и внесение навоза не оказывает существенного влияния на микробиом почвы, поскольку через 30 дней после внесения удобрений только несколько видов бактерий выжили и показали высокую активность. Гены устойчивости к противомикробным препаратам бактерий показали различные динамические характеристики в почве; в то время как ermA, ermB, blaOXA-1, oqxA и qnrS обогащали, blaCTX-M-1, blaSHV и blaTEM-1 исчезли после внесения навоза, позволяя предположить, что разные гены, полученные из навоза, по-разному попадают в почву [4–6]. По данным различных исследователей, Флумеквин может оказывать селективное воздействие на накопление oqxA и QNR в удобренной почве, поэтому его использование в ветеринарии следует пересмотреть. Также ученые отмечают, что на различных фермах молочного скотоводства, птицефабриках и свиноводческих хозяйствах обнаружены различные микробные сообщества, последнее характеризовалось наибольшим количеством антимикробных препаратов, из которых blaOXA-1, ermB, mcr-1 и qnrS значительно более распространены, чем в других секторах животноводства [6; 7].
Управление органическими отходами является важной проблемой в животноводстве коров, особенно фекальных отходов на молочной ферме.
Компостирование признано эффективным методом переработки органических отходов [9]. Однако оно требует определенных процессов, включая температуру, условия
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY окружающей среды и специальные добавки для удаления вредных веществ из фекалий, таких как вредные газы, тяжелые металлы, яйца паразитов, патогенов и генов устойчивости к антибиотикам [10]. К сожалению, с увеличением спроса людей на молочные продукты и расширением масштабов разведения коров фекалии образуются быстрее, чем их можно компостировать. Оставшиеся фекалии обычно накапливаются на фермах по разведению коров, высушиваются в естественных условиях, а затем используются в качестве подстилочного материала для коров или постоянно накапливаются без эффективного управления [11]. В этом процессе вредные ингредиенты, в том числе гены вирулентности и устойчивости патогенов в фекалиях, могут поставить под угрозу пищевую безопасность молочных продуктов, интегрируясь в микробиом человека и делая его устойчивым к лекарственным препаратам [12].
Болезнетворные микроорганизмы и остатки антибиотиков – основные вредные составляющие навоза (в фекалиях, накопленных в естественных условиях). Согласно статистике ВОЗ, ежегодно в мире насчитывается около 1,5 миллиарда пациентов с диареей, 70% этих случаев вызваны пищей, зараженной микроорганизмами [13]. Патогенные микроорганизмы могут выживать в воде, почве и других областях окружающей среды в течение длительного времени, а затем влиять на здоровье человека через сельскохозяйственные культуры или продукты животного происхождения. В настоящее время в фекалиях идентифицировано более 150 патогенов человека и животных [14; 15]. Широкое использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве может привести к заболеваниям и способствовать увеличению количества устойчивых к антибиотикам бактерий и генов устойчивости в окружающей среде [16–18]. Кроме того, существует растущий риск распространения генов устойчивости к патогенам через горизонтальный перенос генов, что может сделать антибиотики активными, даже если бактерии, переносящие гены устойчивости, погибнут (Wintersdorff et al., 2016), поскольку некоторые такие гены могут сохраняться даже тогда, когда действие антибиотиков снижается [11–15]. Опасности накопленного коровьего навоза уделяется меньше внимания, хотя его широко используют для выращивания сельскохозяйственных культур или овощей.
Несмотря на то, что молочные коровы используют антибиотики реже, чем другие мясные животные [19], в коровьем навозе также были обнаружены различные гены устойчивости [13]. Распространение генов резистентности может ограничивать терапевтический потенциал антибиотиков, тем самым создавая потенциальную угрозу для здоровья людей и скота. Тем не менее, мало информации об уровнях и изменениях патогенных бактерий и генов устойчивости при накоплении фекалий в навозе на молочных фермах. Анализ научной литературы показал разнообразные и отчетливо отличающиеся друг от друга бактериальные сообщества между свежими фекалиями и навозом. Современные исследования сходятся во мнении, что микробное разнообразие – основная характеристика свежих фекалий и компостированных образцов [15]. Обнаружено, что доминирующими являлись бактерии, относящиеся к Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes и Actinobacteria [16]. Кроме того, выявлены бактерии, процент которых преобладал в свежем навозе. Так, протео- (11,96% против 50,91%) и актинобактерии (6,7% против 27,14%), в то время как процент бактерий семейства Firmicutes (34,37% против 4,86%) и Bacteroidetes (44,78% против 15,03%) был значительно снижен при накоплении фекалий. Основными микробными видами при накоплении фекалий были аэробные или факультативные анаэробные микроорганизмы, такие как альфапротео- и гаммапротеобактерии, в то время как редуцированными микробными видами всегда были анаэробные микроорганизмы, такие как Bacteroidia и Clostridia [20]. В навозе насчитывалось около 52 патогенных бактерий для человека и животных, а в свежих фекалиях – 45 видов. Из них 13 резистентных штаммов из патогенных родов бактерий для человека и животных, выделенных из свежих фекалий.
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY
Результаты показали, что накопление фекалий можно рассматривать как процесс обогащения патогенами окружающей среды. Патогены могут извлекать выгоду из богатого доступными питательными веществами источника, такими как азот, фосфор, калий, натрий, медь, цинк, кальций, селен, марганец, магний и сера [20]. В то же время недавние исследования показали, что речная вода и дождь на молочных фермах могут способствовать смешиванию навоза с водой и распространению патогенов [21]. Таким образом, накопление фекалий – один из основных источников патогенных микроорганизмов на молочных фермах. Проанализированы патогенные микроорганизмы человека и животных только на уровне рода, оказалось, что потенциальную опасность несут бактерии рода Acinetobacter при внутрибольничных инфекциях [16], Bacillus при сибирской язве [17] и Actinobacillus при бактериемии [20]. Кроме того, обнаружено, что резистентные бактерии, относящиеся к 6 фитопатогенным родам, также значительно повышены в образцах навоза, а именно: Fusarium (фузариоз колоса), Xanthomonas (бактериальный фитофтороз листьев), Parastagonospora (колосковая пятнистость), Agrobacterium (болезнь корончатого галла), Alternaria (болезнь бурой пятнистости) и Ralstonia (бактериальное увядание). Результат свидетельствует: патогенные микроорганизмы из навоза могут распространяться в растительную среду, а фитопатогенные бактерии могут влиять на урожайность и качество сельскохозяйственных культур при использовании навоза в качестве удобрения.
Болезнетворные микроорганизмы всегда наносят вред хозяину через гены вирулентности. Обнаружено, что три патогенных гена и 40 генов вирулентности патогенных родов человека и животных были значительно повышены в навозе по сравнению с их экспрессией в свежих фекалиях. Среди них топ-10 генов вирулентности и три патогенных гена включали гены USX1, MET3, URE1 и Tco1, продуцируемые из Cryptococcus neoformans , которые могут вызывать криптококкоз как у людей, так и у животных [15-18]; гены bpdA и CspA, продуцируемые Brucella melitensis , – бруцеллез овец у животных [19]; гены nhaA и CheA, продуцируемые кишечной палочкой, – менингит или инфицировать людей или животных [20,21]; ген Fdh3, продуцируемый Candida albicans , – диссеминированный кандидоз как у людей, так и у животных [15–17]; ген oqxB, продуцируемый Klebsiella pneumoniae , – пневмонию у животных [20]; ген VC1295, продуцируемый холерным вибрионом, – холерную болезнь как у людей, так и у животных [21]; ген RV3232c, ассоциированный с микобактериями туберкулеза, – туберкулез как у людей, так и у животных [20]; и ген PA2414, ассоциированный с Pseudomonas aeruginosa , – внутрибольничные инфекции как у людей, так и у животных [20]. Интересно, с увеличением глубины укладки навоза (15 см ˃ 10 см ˃ 5 см) обнаружены патогены человека и животных с усиленными генами вирулентности. К таким видам относились Pseudomonas, Streptococcus и Escherichia , которые могут инфицировать как людей, так и животных.
Чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве – общемировая проблема [22]. Установлено, что общий уровень резистентных штаммов с генами устойчивости подтипов генов резистентности был повышен при накоплении навоза. Всего в навозе выявлено 11 таких генов и 22 их подтипа. Среди них tlrc(mls_abc), cara (mls_abc) и vatb (vat) были повышены во время накопления фекалий, с повышением резистентности бактерий либо в свежих фекалиях, либо в навозе, в то время как vanrg (vang), vanug (vang) и tet37(tet_flavo) снижены и в свежих фекалиях, и в навозе. Таким образом резистентность к стрептограмину A (vat), линкозамиду/макролиду/стрептограмину B (mls_abc), ванкомицину (vang) и тетрациклину (tet_flavo) чаще всего выявлялась в свежих фекалиях. Есть сведения, что линкозамид/макролид/стрептограмин B широко используется в животноводстве в качестве кормовой добавки для стимулирования роста и зрелости животных [15–18].
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY
Кроме того, ванкомицин и тетрациклин обычно используют при бактериостазе и стерилизации на молочных фермах [19]. Также исследования показывают, что гены устойчивости для тетрациклинов обнаружены в навозе кур, свиней и коров [22]. По данным ученых, тетрациклины, ванкомицин и стрептограмин B должны снижаться in vivo после кормления скота или in vitro во время компостирования фекалий [21]. Тем не менее, есть сведения, что при компостировании деградирует только ванкомицин, тетрациклин остается на том же уровне, уровни линкозамида, макролида, стрептограмина B и стрептограмина А повышаются. Более того, резистентность к фторхинолонам не обнаружена в свежих фекалиях, но значительно увеличилась в навозе, предполагая, что накопленный навоз также был передаточной станцией генов устойчивости для обогащения генами резистентности в окружающей среде. Одной из основных причин обогащения генами резистентности является их горизонтальный перенос, они могут оставаться активными, даже если бактерии, переносящие эти гены, погибнут [21].
Распространение ветеринарных препаратов в животноводстве и их влияние на почвенный микробиом
Распространение ветеринарных лекарственных средств (ВЛС) и биоцидов через навоз на сельскохозяйственные угодья представляет очень важный выброс в окружающую среду. Ветеринарные лекарственные средства выделяются в окружающую среду обработанными животными в виде неизмененных исходных веществ и метаболизированных соединений [23]. Экскременты животных, содержащихся в стойлах, собирают и хранят в основном в виде жидкого или твердого навоза, прежде чем использовать в качестве удобрений на пахотных землях и пастбищах. Биоциды для дезинфекции конюшен попадают в экскременты животных, которые хранятся на складе. При внесении навоза в сельском хозяйстве ветеринарные препараты и биоциды попадают в окружающую среду и, следовательно, влияют на качество почвы и воды. В зависимости от граничных условий, таких как температура хранения, содержание сухого вещества, кормление животных и доступность акцепторов электронов, фармацевтические препараты и биоциды могут подвергаться дальнейшей трансформации в жидком навозе. Помимо трансформации, могут происходить другие процессы, такие как улетучивание, сорбция и образование неэкстрагируемых остатков, способствующих рассеиванию активных ингредиентов. Продукты трансформации также могут сохраняться в окружающей среде и быть экотоксичными. Для тетрациклинов обнаружены продукты трансформации, такие как эпимеры, изомеры и ангидросоединения [24–26]. Метаболиты сульфадиазина демонстрируют обратную трансформацию в исходное соединение [26]. На процессы трансформации влияют состав матрицы, температура, значение рН, микробиом, а также аэробные или анаэробные условия. Соединения могут адсорбироваться в зависимости от ее сорбционной способности. Чем выше содержание сухого вещества в жидком навозе, тем больше мест сорбции [27]. Как правило, трансформация в аэробных условиях происходит быстрее, чем в анаэробных. Кроме того, высокие температуры способствуют разложению соединений в жидком навозе. При наиболее распространенном хранении навоза в навозохранилищах условия хранения анаэробные. Хранение навоза под открытым небом отличается более аэробными условиями на поверхности и анаэробными в более глубоких слоях. Компостирование отделенного навоза в аэробных условиях – наиболее предпочтительная обработка навоза.
Следует отметить, что на процесс трансформации соединений в значительной степени влияют методы хранения навоза. Жидкий обычно определяют следующим образом: «Жидкий – преобладающий вид навоза, представляет смесь мочи, забоев и воды, используемой для уборки конюшен, также может содержать подстилочный
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY материал. Обнаружено, что типичное содержание сухого вещества в навозе свиней и крупного рогатого скота составляет 5 и 10% соответственно» [28]. Важно отметить отличие навоза от экскрементов, это то, что они выделяют непосредственно, а не собирают и хранят более длительные периоды времени, в течение которых развиваются анаэробные условия [28]. Для изучения экологической судьбы ВЛС можно найти множество различных исследований с использованием смесей почвы и навоза или тест-систем, содержащих дополнительные растения. По сравнению с твердым навозом у жидкого более однородный состав. Этот тип навоза рассматривался в первую очередь, поскольку установлено, что это преобладающий вид [28]. По анализу рассмотренной литературы, в навозе обнаружено 39 различных активных веществ ВЛС. Кроме того, идентифицировано 11 метаболитов и продуктов трансформации активных веществ. В основном образцы анализировали на сульфаниламиды, тетрациклины и фторхинолоны. Наиболее часто встречающиеся отдельные активные вещества: сульфадимидин (599 положительных результатов), тетрациклин (575 положительных результатов) и хлортетрациклин (457 положительных результатов). Самая высокая концентрация энрофлоксацина – 1420,76 мг / кг (ww) обнаружена в птичьем помете из Китая, за ним следует 764,407 мг / кг (dw) хлортетрациклин в свином навозе из Китая и 330,7 мг / кг (ww) в свином навозе из Германии. Кроме того, обнаружены очень высокие значения для других сульфаниламидов, тетрациклинов и фторхинолонов [29–31].
В исследованиях есть подробная информация о судьбе хлортетрациклина (ХТЦ) при анаэробном сбраживании навоза телят, получавших этот антибиотик. Концентрация ХТЦ снизилась примерно на 75%, а концентрация эпимера ХТЦ, 4-эпихлортетрациклина снизилась примерно на 33% в течение 33-дневного эксперимента. Концентрация метаболита ХТЦ изохлортетрациклина увеличилась в два раза. Ссылаясь на более высокую растворимость в воде, авторы пришли к выводу о возможном появлении метаболитов ХТЦ в водоемах. Также ряд ученых заявили, что твердые и жидкие стоки от обработки анаэробным сбраживанием, содержащие продукты трансформации антибиотиков, могут представлять экологическую проблему.
Например, в ряде исследований отмечено [31], что концентрация сульфадиазина увеличилась на 42% во время хранения навоза из-за деацетилирования метаболита N -ацетил-сульфадиазина. Также Huang L и др. [32] сообщают, что выработка метана в навозе, обогащенном хлортетрациклином (0,55 мг / кг массы тела), была снижена на 12% по сравнению с навозом обработанных животных с той же концентрацией хлортетрациклина. Wang X. и др. [31] обнаружили более низкий индекс разнообразия метаногенных архей в навозе животных, обработанных тилозином, по сравнению с навозом, в который был добавлен тилозин в той же концентрации. Wang X. и др. [31] также обнаружили различия между подсыпанным навозом и навозом от обработанных животных, с точки зрения содержания Bacillus cereus , разлагающих окситетрациклин, и продуктов трансформации окситетрациклина.
Ряд авторов определили, что DT 50 для тетрациклина в невентилируемых системах составлял 9 дней, тогда как при вентилировании навозной жижи – 4,5 дня. Szatmári и др. [33] сравнили анаэробное лабораторное исследование с полевым исследованием с использованием компостирования навоза. В ходе лабораторного эксперимента в образцах навоза после 12 и 16 недель выдержки было обнаружено более 30%, а в полевых исследованиях – около 10% исходного количества доксициклина соответственно. Период полураспада доксициклина в навозе, по расчетам, составил 52,5 дня в анаэробных условиях и 25,7 дня в аэробных.
В исследованиях с тетрациклинами Arikan et al. [25] и Álvarez et al. [23] выявлено: выработка метана снижена на 27% во время серийных экспериментов и до 62% – из-за
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY дозировки антибиотиков соответственно. Ученые обнаружили [34; 35], что образование метана подавлено на 27,8% из-за присутствия хлортетрациклина. В зависимости от дозы [36–38] определили неблагоприятное воздействие тетрациклина с полным снижением микробной активности и метаболических функций при концентрации 8,5 мг/л в смеси синтетических субстратов в анаэробных условиях. Shelver W.L. и др. [37] зафиксировали зависимое от дозы ингибирование продукции CH 4 и пришли к выводу, что антибиотики, по-видимому, подавляют активность бактерий, это приводит к задержке и общему снижению продукции CH 4 . Помимо темы трансформации в навозе, Ma Y. и соавт. [38], например, выделили новый штамм бактерий, способных разлагать 100% тилозина в течение 72 ч.
Состав микробного сообщества оказывает огромное влияние на скорость и пути трансформации. Без какого-либо дальнейшего качественного и количественного критического анализа микробиоты невозможно получить надежные и воспроизводимые данные о трансформации ВЛС и биоцидов в жидком навозе. Hamscher G. [35] исследовал стабильность лекарственных препаратов в навозе при хранении при 7 ° C и не обнаружил деградации хлортетрациклина в течение 6 мес. Содержание сульфадиазина снизилось до 50% через 1 неделю, но остатки были стабильными до конца исследования (32 недели). Автор варьировал температуру хранения (–20,7 °C, комнатная температура) в течение 16 недель. Сульфамеразин, сульфаметоксипиразин, сульфагуанидин и сульфисомедин сохранялись. Сульфаметоксазол восстанавливался до 80% при температуре 7 °C, а также при комнатной температуре. Та же скорость разложения достигалась быстрее при более высоких температурах, чем при более прохладных условиях хранения. Количество энрофлоксацина и тиамулина уменьшилось до 20% при температуре хранения 7 °C. Для тиамулина наблюдалось снижение на 10% при 7 °C и на 25% при комнатной температуре. Только сульфапиридазин и энрофлоксацин показали небольшое снижение при температуре хранения –20 ° C [39–41].
Также ученые [40–42] изучали трансформацию цефтиофура при температурах от 15 до 45 °C и выявили увеличение скорости гидролиза и биодеградации с повышением температуры. С 35 до 45°C повышение температуры привело к повышению значимости гидролиза для трансформации цефтиофура, в то время как биодеградация оставалась неизменной [43–47].
Аналогичным образом Varel V. и др. [48] обнаружили принципиальное увеличение скорости рассеивания при повышении температуры с 22 до 55 °C. Они изучали влияние анаэробного сбраживания при различных температурах, среди прочих параметров, на судьбу хлортетрациклина в свином навозе и монензина (МОН) в навозе крупного рогатого скота. Авторы пришли к выводу: анаэробное сбраживание при повышенных температурах может быть эффективным средством для снижения ХТЦ, но не монензина. Трансформация ХТЦ в основном зависит от абиотической трансформации. Это также показано в работах ученых [49–51], которые работали с ХТЦ при температуре от 22 до 55°C. В целом установлено, что трансформация зависит от температуры исследования; одновременное повышение температуры приводит к увеличению скорости трансформации. Работа при температурах выше микробиологически значимого предела в 35–40°C – к подавлению микробиологической активности и процессов биодеградации [52].
Таким образом, по данным различных авторов, доступные исследования по трансформации биоцидов и ветеринарных лекарственных средств в навозе показывают большие различия в зависимости от условий хранения, температуры, окислительно-восстановительного потенциала, матричных эффектов и физико-химических свойств. Наиболее часто исследуемые ВЛС относятся к классу антибиотиков, а именно сульфаниламидов, тетрациклинов
Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 3 (55) VETERINARY AND ZOOTECHNY и макролидных антибиотиков. Некоторые из этих параметров относительно просто измерить, их следует обязательно контролировать или по возможности стандартизировать.
Заключение
Таким образом, это одна из наиболее сложных тем с пробелами в знаниях, связанных с составом, развитием или распространением устойчивости, или адаптацией и активностью микробного сообщества. В результате обобщенных мониторинговых исследований можно сделать вывод: ВЛС встречаются в навозе повсеместно. До сегодняшнего дня биоциды полностью игнорировались. Для сульфадиазина и хлортетра-циклина обнаружены концентрации, превышающие прогнозируемые концентрации в окружающей среде. Для будущих мониторинговых исследований, с точки зрения оценки экологического риска, обязательными должны быть определение точного вида животного в качестве источника навоза, а также измерение и представление данных о содержании азота и сухого вещества в анализируемом навозе.
Список литературы Влияние кишечной микрофлоры, резистентной к антибиотикам, и лекарственных препаратов на почвенный микробиом
- Microbial community and functional diversity associated with different aggregate fractions of a paddy soil fertilized with organic manure and/or NPK fertilizer for 20 years / X. Chen, Z. Li, M. Liu [et al.] // J. Soils Sediments. 2015;15:292–301.
- Tackling antibiotic resistance: the environmental framework / T.U. Berendonk, C.M. Manaia, C. Merlin [et al.] // Nat. Rev. Microbiol. 2015; 13: 310–317.
- Precipitation influences pathogenic bacteria and antibiotic resistance gene abundance in storm drain outfalls in coastal sub-tropical waters / W. Ahmed, Q. Zhang, A. Lobos [et al.] // Environ. Int. 2018;116: 308–318.
- The persistence of a broad range of antibiotics during calve, pig and broiler manure storage / B.J.A. Berendsen, J. Lahr, C. Nibbeling [et al.] // Chemosphere 204, 267–276. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018;04:042.
- DADA2: high-resolution sample inference from Illumina amplicon data / B.J. Callahan, P.J. McMurdie, M.J. Rosen [et al.] // Nat. Methods. 2016;13:581–583. https://doi.org/10.1038/nmeth.3869.
- Development and application of real-time PCR assays for quantification of erm genes conferring re-sistance to macrolides-lincosamides-streptogramin B in livestock manure and manure management systems / J. Chen, Z. Yu, F.C. Michel [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. 2007; 73: 4407–4416. https://doi.org/10.1128/AEM.02799-06.
- Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2 / E. Bolyen [et all.] // Nat. Biotechnol. 2019;37: 852–857. https://doi.org/10.1038/s41587-019-0209-9.
- Antibiotic resistance genes and bacterial communities in cornfield and pasture soils receiving swine and dairy manures / Z. Chen, W. Zhang, L. Yang [et al.] // Environ. Pollut. 2019; 248: 947–957. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.02.093.
- Cryptococcus gattii urease as a virulence factor and the relevance of enzymatic activity in cryptococ-cosis pathogenesis / V. Feder, L. Kmetzsch, C.C. Staats [et al.] // FEBS J. 2015; 282: 1406–1418.
- Akeda Y. Food safety and infectious diseases // J Nutrit Sci Vitaminol. 2015; 61(Suppl): S95.
- The ins and outs of cyclic di-GMP signaling in Vibrio cholerae. Curr Opin Microbiol / J.G. Conner, D. Zamorano-Sanchez, J. H. Park [et al.] // 2017; 36: 20–29.
- Almasaudi S.B. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: epidemiology and resistance features // Saudi JBiol Sci. 2018; 25: 586–596.
- Mathematical modelling of antimicrobial resistance in agricultural waste highlights importance of gene transfer rate / M. Baker, J.L. Hobman, C.E. Dodd [et al.] // FEMS Microbiol Ecol. 2016; 92: fiw040.
- Grassmann F. Conduct and quality control of differential gene expression analysis using high-throughput transcriptome sequencing (RNASeq) // Methods Mol Biol. 2019; 1834: 29–43.
- Phylosymbiosis: relationships and functional effects of microbial communities across host evolution-ary history / A.W. Brooks, K.D. Kohl, R.M. Brucker [et al.] // Plos Biol. 2017; 15: e1002587.
- Antibiotic alternatives: the substitution of antibiotics in animal husbandry? / G. Cheng, H. Hao, S. Xie [et al.] // Front Microbiol. 2014; 5: 217.
- Integrated wholegenome screening for Pseudomonas aeruginosa virulence genes using ultiple disease models reveals that pathogenicity is host specific / J.F. Dubern, C. Cigana, De Simone M. [et al.] // Environ Microbiol. 2015;17:4379–4393.
- Dried manure solids as a bedding material for dairy cows / R. Blowey, J. Wookey, L. Russell [et al.] // Vet Rec. 2013; 173: 99–100.
- The skin microbiome of the Common thresher shark (Alopias vulpinus) has low taxonomic and potential metabolic b-diversity / M.P. Doane, J.M. Haggerty, D. Kacev [et al.] // Environ Microbiol Rep. 2017; 9: 357–373.
- Antimicrobial resistance: a global emerging threat to public health systems / M. Ferri, E. Ranucci, P. Romagnoli [et al.] // Crit Rev Food Sci Nutrit. 2017; 57: 2857–2876.
- Pathogens transmitted in animal feces in low- and middle-income countries / M.J. Delahoy, B. Wodnik, L. Mcaliley [et al.] // Int J Hygiene Environ Health. 2018; 221: 661–676.
- The melioidosis agent Burkholderia pseudomallei and related opportunistic pathogens detected in faecal matter of wildlife and livestock in northern Australia / A.C. Hager, M. Mayo, E.P. Price [et al.] // Epidemiol Infect. 2016; 144: 1924–1932.
- The effect and fate of antibiotics during the anaerobic digestion of pig manure / J.A. Álvarez, L. Otero, J. Lema [et al.] // Bioresour Technol. 2010; 101(22):8581–8586.
- Chronic impact of tetracycline on the biodegradation of an organic substrate mixture under anaerobic conditions / Z. Cetecioglu, B. Ince, M. Gros [et al.] // Water Res. 2013; 47(9):2959–2969 14.
- The fate and effect of oxytetracycline during the anaerobic digestion of manure from therapeutically treated calves / O. Arikan, L.J. Sikora, W. Mulbry [et al.] // Process Biochem. 2006; 41(7):1637–1643.
- Fate of antibiotics in food chain and environment originating from pigfattening (part 1) / M. Grote, A. Vockel, D. Schwarze [et al.] // Fresen Environ Bull. 2004; 13(11b):1216–1224.
- Quantification of veterinary antibiotics (sulfonamides and trimethoprim) in animal manure by liquid chromatography–mass spectrometry / M.Y. Haller, S.R. Müller, C.S. McArdell [et al.] // J Chromatogr A. 2002; 952(1–2):111–120.
- Fate of sulfadiazine administered to pigs and its quantitative effect on the dynamics of bacterial resistance genes in manure and manured soil. Soil Biol Biochem / H. Heuer, A. Focks, M. Lamshöft [et al.] // 2008; 40(7):1892–1900.
- Karcı A., Balcıoğlu I.A. Investigation of the tetracycline, sulfonamide, and fluoroquinolone antimicrobial compounds in animal manure and agricultural soils in Turkey // Sci Total Environ. 2009; 407(16):4652–4664.
- Kuchta S.L., Cessna A.J. Lincomycin and spectinomycin concentrations in liquid swine manure and their persistence during simulated manure storage //Arch Environ Contam Toxicol. 2009; 57(1):1–10.
- Fate of tylosin a and its effect on anaerobic digestion using two tylosin inclusion methods / X. Wang, R. Guo, B. Ma [et al.] // Environ Prog Sustain Energy. 2014; 33(3):808–813.
- Effect of the chlortetracycline addition method on methane production from the anaerobic digestion of swine wastewater / L. Huang, X. Wen, Y. Wang [et al.] // J Environ Sci China. 2014; 26(10):2001–2006.
- Szatmári I., Laczay P., Borbély Z. Degradation of doxycycline in aged pig manure // Acta Vet Hung. 2011;59(1):1–10.
- Stability of tetracycline in water and liquid manure / M. Kuhne, D. Ihnen, G. Moller [et al.] // J Vet Med A. 2000;47(6):379–384.
- Determination of persistent tetracycline residues in soil fertilized with liquid manure by high-performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry / G. Hamscher, S. Sczesny, H. Höper [et al.] // Anal Chem. 2002; 74(7):1509–1518.
- Höltge S., Kreuzig R. Laboratory testing of sulfamethoxazole and its metabolite acetyl-sulfamethoxazole in soil // Clean Soil Air Water. 2007;35(1):104–110.
- Shelver W.L., Varel V.H. Development of a UHPLC–MS/MS method for the measureme 61nt of chlortetracycline degradation in swine manure. Anal Bioanal Chem. 2012; 402(5):1931–1939.
- Biodegradation of tylosin residue in pharmaceutical solid waste by a novel Citrobacter amalonaticus strain. Environ Prog Sustain Energy / Y. Ma, L. Wang, L. Liu [et al.] // 2015; 34(1):99–104.
- Behaviour of 14C-sulfadiazine and 14C-difloxacin during manure storage / M. Lamshöft, P. Sukul, S. Zühlke [et al.] // Sci Total Environ. 2010; 408(7):1563–1568.
- Degradation kinetics and mechanism of antibiotic ceftiofur in recycled water derived from a beef farm / X. Li, W. Zheng, M.L. Machesky [et al.] // J Agric Food Chem. 2011; 59(18):10176–10181.
- Environmental monitoring study of selected veterinary antibiotics in animal manure and soils in Austria / E. Martínez-Carballo, C. González-Barreiro, A. Scharf [et al.] // Environ Pollut. 2007;148(2):570–579.
- Anaerobic transformation kinetics and mechanism of steroid estrogenic hormones in dairy lagoon water / W. Zheng, X. Li, S.R. Yates [et al.] // Environ Sci Technol. 2012; 46(10):5471–5478.
- Development of an analytical methodology for the determination of the antiparasitic drug toltrazuril and its two metabolites in surface water, soil and animal manure / J. Olsen, E. Björklund, K.A. Krogh [et al.] // Anal Chim Acta. 2012; 755:69–76.
- Residual veterinary antibiotics in swine manure from concentrated animal feeding operations in Shandong province, China / X. Pan, Z. Qiang, W. Ben [et al.] // Chemosphere. 2011;84(5):695–700.
- Widyasari-Mehta A., Suwito H. R., Kreuzig R. Laboratory testing on the removal of the veterinary antibi-otic doxycycline during long-term liquid pig manure and digestate storage // Chemosphere. 2016; 149:154–160.
- Veterinar antibiotic arückstande in Gülle und Gärresten aus Nordrhein-Westfalen / C. Ratsak, G. Barba-ra, Z. Sebastian [et al.] // Environ Sci Eur. 2013;25(1):1–11.
- Schlüsener M.P., Bester K., Spiteller M. Determination of antibiotics such as macrolides, ionophores and tiamulin in liquid manure by HPLC–MS/MS // Anal Bioanal Chem. 2003;375:942–947.
- Effect of anaerobic digestion temperature on odour, coliforms and chlortetracycline in swine manure or monensin in cattle manure / V. Varel, J. Wells, W. Shelver [et al.] // J Appl Microbiol. 2012;112(4):705–715.
- Comparison of oxytetracycline degradation behavior in pig manure with different antibiotic addition methods / Y. Wang, G. Chen, J. Liang [et al.] // Environ Sci Pollut Res. 2015;22(23):18469–18476.
- Fate of estrogen conjugate 17α-estradiol-3-sulfate in dairy wastewater: comparison of aerobic and anaerobic degradation and metabolite formation / W. Zheng, Y. Zou, X. Li [et al.] // J Hazard Mater. 2013; 258–259:109–115.
- Use of veterinary drugs in intensive animal production evidence for persistence of tetracycline in pig slurry / C. Winckler, A. Grafe [et al.] // J Soil Sediment. 2001; 1(2):66–70.
- Zhao L., Dong Y.H., Wang H. Residues of veterinary antibiotics in manures from feedlot livestock in eight provinces of China // Sci Total Environ. 2010; 408(5):1069–1075.