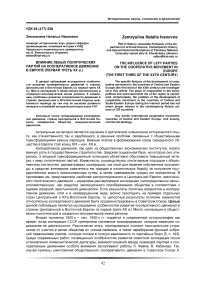Влияние левых политических партий на кооперативное движение в Европе (первая треть ХХ в.)
Автор: Земзюлина Наталья Ивановна
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Исторические науки, этнология и археология
Статья в выпуске: 5 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной публикации исследуются особенности развития кооперативного движения в странах Центральной и Восточной Европы (в первой трети ХХ в.). Место кооперации в общественно-политической и социально-экономической жизни региона. К сожалению, проблемы развития кооперативного движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы межвоенного периода до сих пор не вызвали должного интереса в новейшей исторической науке стран СНГ.
Международное кооперативное движение, страны центральной и восточной европы, гражданское общество, коммунистическая идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14949877
IDR: 14949877 | УДК: 94
Текст научной статьи Влияние левых политических партий на кооперативное движение в Европе (первая треть ХХ в.)
THE INFLUENCE OF LEFT PARTIES ON THE COOPERATIVE MOVEMENT IN EUROPE (THE FIRST THIRD OF THE XXTH CENTURY)
The specific features of the development of cooperative movement in the countries of Central and Eastern Europe (the first third of the XXth century) are investigated in this article. The place of cooperation in the sociopolitical and socio-economic life of the region is considered. Unfortunately, the problem of the development of cooperative movement in the countries of Central and South-Eastern Europe during the interwar period has not arisen proper interest in the contemporary history science of CIS countries.
Актуальным на сегодня является изучение и критическое осмысление исторического опыта, как отечественного так и зарубежного, в решении проблем, связанных с общественными трансформациями разных периодов. Важным этапом в формировании основ гражданского общества в Европе стал конец ХІХ – нач. ХХ в.
Кооперативное движение, как один из общественных экономических институтов, играло важную роль в государственном строительстве. Широкая социальная база, на которую оно опиралось, и мощный трансформационный потенциал объективно обусловили повышенный интерес к нему политических партий. Коммунисты, руководствуясь утилитарным подходом к общественным институтам, рассматривали кооперацию, как поле для ведения собственной пропаганды и средство втягивания охваченных ею граждан в политическую борьбу за получение государственной власти насильственным путем, а затем навязывание чуждых им приоритетов. В противовес им, представители наиболее распространенного в Центральной Европе, крестьянского политического движения – аграризма рассматривали кооперацию (непосредственно сельскохозяйственную), как средство эволюционного преобразования общества в соответствии с идеями аграрной (крестьянской) демократии. Если результаты политики аграристов в кооперативном движении, хотя и в незавершенном виде, можно проследить на примере отдельных стран Центральной и Юго-Восточной Европы, то целостные результаты политики комунистов относительно кооперативного движения были продемонстрированы в Советском Союзе. Целью данной публикации является исследование особенностей развития кооперативного движения в странах Центральной и Восточной Европы (в первой трети ХХ в.) Место кооперации в общественно-политической и социально-экономической жизни региона.
Вторая половина 1920-х – нач. 1930-х гг. подаётся в современной историографии как время, когда кооперация СССР претерпела системные трансформации, которые изменили содержание ее деятельности. Результатом этого, исследователи считают окончательное устранение от участия в делах общества их членов-паёвиков, а также перебирание функций собраний правлениями союзов, которые попали в полную зависимость от партийных бюро [5, с. 163]. Среди современных работ, посвященных особенностям развития советской кооперации после установления коммунистической диктатуры, взаимоотношений между правящей партией и кооперативным движением особого внимания заслуживают работы Л. Файна, В. Кабанова. Так, изучая причины уничтожения общественного кооперативного движения в Советском Союзе Л.
Файн отмечал, что главная причина состояла в невозможности кооперации, как демократической организации защиты экономических интересов своих членов. Кооперация оказалась инородным телом в насильственно создаваемом порядке. Как следствие, российские исследователи сходятся во мнении, что в начале 1930-х гг. российская кооперация была деформирована, в такой степени, что сохранила лишь название. Она перестала в полном и точном смысле соответствовать определению термина «кооперация» [10, с. 90]. Появление возможностей для критического переосмысления истории после распада СССР вызвало оживление исследований, посвященных политике коммунистов относительно общественных движений, в том числе их курса в Международном кооперативном альянсе (МКА). В конце 1990-х гг. пересмотрели предыдущие взгляды М. Макаренко и А. Крашенинников [7]. В начале XXI в. появились новые труды по истории взаимодействия советских кооперативных центров и МКА, которые теперь рассматривались в контексте политики коммунистов в мировом и европейском кооперативном движении. Среди них следует отметить несколько работ украинских исследователей М. Журбы [3] и О. Крамара [6]. Однако, проблемы развития кооперативного движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы межвоенного периода до сих пор не вызвали должного интереса в новейшей исторической науке стран СНГ.
Прежде чем перейти к рассмотрению политики коммунистов в европейском кооперативном движении, следует отметить, что её специфика во многом зависела от того, находились последние при власти, или только вели борьбу за установление «диктатуры пролетариата». Ведь в этом случае кооперация не рассматривалась с точки зрения возможного её использования для реализации общественных преобразований, а оценивалась как инструмент радикализации охваченного ею населения. Исторически первым был опыт использования кооперации в социально-экономических преобразованиях в советских республиках бывшей Российской империи. Приоритетной для большевиков была потребительская кооперация, развитие которой должно было завершиться установлением монопольных позиций в розничной торговле, а затем подготовить постепенный отказ от товарно-денежных отношений и переход к системе централизованного распределения товаров среди населения. Разработанный В. Лениным проект предусматривал развитие на основе кооперативной сети, так называемого, «общенационального кооператива». Все население страны обязано было вступить в потребительские общества. Это долино было дополняться такими недемократическими принципами как национализация общественных по форме потребительских кооперативов, монополизация отдельно взятых «обществ» на отведенной им територии [11, с. 120-121]. Компартийное руководство откровенно демонстрировало неприятие базовых кооперативных принципов и главное – самостоятельности кооперации, ее независимости от государственных структур [4, с. 117]. Однако, отсутствие широкой социальной базы большевистского режима подталкивало к временному компромису с наиболее многочисленной и влиятельной в послереволюционной России общественной организацией. В результате, лидеры кооперативного движения согласились на требование В. Ленина относительно поставок кооперацией всему населению страны потребительских товаров на равных условиях, независимо от того, были ли они членами кооперативов. Согласно утвержденному Советом народных комиссаров РСФСР 12 апреля 1918 г. декретом «О потребительских кооперативных организациях», их отношения с государством оставались формально договорными, в частности были сохранены внутренняя автономия и демократические принципы формирования членской базы [9, л. 30; 1, с. 91-92].
Первые потребительские общества были организованы в странах Европы. Они учреждались рабочими под влиянием роста дороговизны муки, печеного хлеба, топлива и т.д. До невероятных размеров была распространена фальсификация продуктов питания: муки, молока и т.д. Нередко рабочие бывали вынуждены брать в лавках хозяев низкосортные товары, которые отпускались им в кредит по очень высоким ценам в счет заработной платы.
В Германии возникновению кооперативов предшествовали опыты по приобретению муки, картофеля, дров в складчину. В 1854 г. рабочие и ремесленники г. Лейпцига организовали потребительское общество. В промышленно развитых районах страны кооперативы отличались пролетарским составом их членов. В 1859 г. был создан Всеобщий союз немецких промышленных и хозяйственных кооперативов, куда первоначально вошла и часть потребительских обществ. Спустя много лет образовалось общество оптовых закупок.
Кооперативное движение стран Европейского региона на протяжении 1920-х гг. отлича- лось организационной неоднородностью. Так, если в Венгрии оно было не только интегрировано в общенациональный кооперативный центр – Венгерских кооперативных союзов, но и структурировано в консолидированые организации потребительской, кредитной и других форм кооперации, то в Чехословакии и Польше процессы интеграции кооперативного движения всё ещё продолжались. Это объяснялось, как особенностями обустройства их территорий, так и национальным составом населения. В частности, в Польше сказывалось длительное вхождения ее территории до трех соседних империй (Российской, Австро-Венгерской и Германской), на которых и происходили процессы генезиса кооперативного движения в конце XIX в. В результате, в Польше существовали отдельные взаимонезависимые центры всех видов кооперации, а в Чехословакии отдельные национальные объединения сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Процессы консолидации кооперативного движения наталкивались на политикоидеологические противоречия между политическими силами, которые контролировали те или иные центры. Именно по этой причине, роздробленность польской сельскохозяйственной кооперации преодолевалась медленнее чем чехословацкой. Это объяснялось не только отсутствием единства местного аграрного движения, но и борьбой за влияние в возможном едином центре – Центральном союзе сельскохозяйственных кооперативов. Проявление обострения конфликта между коммунистами и умеренным представительством европейской кооперации нашло свое выражение и в работе МКА. Это ярко прослеживается на опыте Чехословакии. Именно в ней, среди кооперативных движений всех стран коммунисты имели в начале 1920-х гг. наиболее сильные позиции [8, арк. 24]. В чехословацкой компартии была создана одна из первых в Европе кооперативных секций. Среди славянской части потребительского движения коммунисты в начале 1920-х гг. получали до половины мест на кооперативных конгрессах, что было беспрецедентным результатом среди всех капиталистических кооперативных центров. Официальный орган Кооперативной секции Коминтерна журнал «Международная кооперация» в начале 1925 г. отмечал, что: «Чехословакия – единственная страна, в которой наше влияние распространилось на широкие массы кооперированных рабочих» [2, с. 6]. Ячейками коммунистического влияния в стране были кооперативы крупных промышленных центров, в частности в Праге, Кладно, Моравской Остраве, Брно. Одновременно, дифференциация идейного влияния имела место и по этническому признаку. Так, в немецких потребительских обществах преобладало влияние умеренной социал-демократии, а в словянских – коммунистов [12, с. 50-52]. Кооперативная секция Коминтерна требовала от КПЧ изменить подходы к кооперативному движению, острая борьба за влияние на кооперацию Чехословакии нашла свое отражение и во время XII Конгресса МКА 1927 г. в Стокгольме. Просоветские выступления делегатов-коммунистов от чехословацкой кооперации (Крейц, Каневская т.п.) натолкнулись на критику со стороны оппозиционного представителя делегации Гакеля, который призвал Конгресс «... не думать, что чехословацкая делегация состоит исключительно из коммунистов. Мы достаточно терпимо относимся к коммунистам, но Чехословакия не считает нужным безоговорочно подчиняться всем установкам из Москвы» [13, с. 17, 21]. Если до 1927 г. представители чешской кооперации в МКА занимали по отношению советских инициатив в целом лояльную позицию, то уже во время сессии ЦК МКА в Брюсселе в апреле 1927 г. выступили активными противниками сохранения за делегатами кооперативных центров советских республик эксклюзивного представительства в 10 представителей в ЦК. Соответствующее предложение было внесено как компромиссное бельгийской делегацией, поддержано английской и французской и несмотря на резкое сопротивление чехов и немцев получило большинство в 21 голос против 5 во время Брюссельского заседания ЦК МКА. Это было отражением сложных процессов, вызванных попытками Коминтерна осуществить, так называемую, «большевизацию» коммунистических партий центральноевропейских стран. Фактически, чехословацкий случай был показателен для других стран. На кооперативном совещании VI расширенного пленума Исполнительного комитета Коминтерна в марте 1926 г. чехословацкие коммунисты были раскритикованы за то, что получив сильные позиции в чешской кооперации, ограничились чисто кооперативной работой, не связывая её с политическими требованиями, недостаточно активно использовали возможности мобилизации кооперированного населения для так называемой, общей борьбы.
Социально-экономические и политические условия отдельных стран региона существенно различались. Наиболее благоприятными для реализации кооперативной политики крестьянских политических партий они были в Болгарии и Чехословакии. Зато в Румынии, и особенно в
Королевстве сербов, Хорватов и словенцев популярны среди населения аграрные партии, на протяжении 1920-х гг. не имели возможностей для проведения в жизнь своих теоретических положений. Особенности политического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы в исследуемый период также наложили свой отпечаток на возможности внедрения в жизнь опе-ределённых идеологических постулатов. Если коммунисты в СССР собственную программу общественной модернизации осуществляли в условиях партийной монополии на власть, то сторонники аграрных идей в странах ЦПСЕ вынуждены были действовать в атмосфере политического плюрализма и представительской демократии. Учитывая это, их кооперативная политика реализовывалась с большими трудностями, так как параллельно с партийными интересами, вынуждена была одновременно учитывать ключевые в кооперации экономические возможности и потребности населения.
Список литературы Влияние левых политических партий на кооперативное движение в Европе (первая треть ХХ в.)
- Декреты Советской власти: 17 марта -10 июля 1918 г. М., 1959. Т. 2.
- Достижения и задачи коммунистов в кооперации//Международная кооперация. 1925. № 3-4.
- Журба М.А. Крестьянская кооперация советской Украины и Международный кооперативный Альянс (20-е годы ХХ в.)//Украинский исторический журнал. 2001. № 2.
- Кабанов В.В. Кооперация, революция, социализм. М., 1996.
- Коряков И.А. Принципы кооперативного движения. Чита, 1998.
- Крамар А.С. Проблемы создания и деятельности иностранных представительств украинской кооперации в 20-х годах ХХ ст.//Гилея. 2009. Вып. 22.
- Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения: учеб. пособие. М., 1999.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 506. Оп. 1. Спр. 29. Отчет, письмо в ИККЫ и резолюции по организационным и тактическим вопросам, принятые на 1 конференции коммунистов-кооператоров в Москве 1-6 ноября 1922 г. (01.11.1922 -06.11.1922 гг.).
- РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 93. Протокол Совета народных комиссаров СССР (10 апреля 1918г.).
- Титаев В.Н. и др. Теория и история кооперативного движения/В.Н. Титаев, В.В. Пэтров, И.Ф. Бородин. Энгельс, 2002.
- Файн Л.Е. Отечественная кооперация: исторический опыт. Иваново, 1994.
- Фрометт Б.Р. Крестьянская кооперация и общественная жизнь -2-е изд. Пг., 1918.
- XIII Международный кооперативный конгресс//Международная кооперация. 1927. № 9-10.