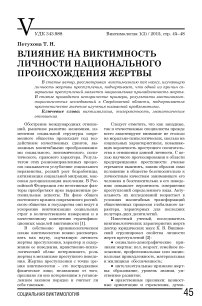Влияние на виктимность личности национального происхождения жертвы
Автор: Петухова Т.Н.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Социальная виктимология
Статья в выпуске: 1 (3), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье автор, рассматривая виктимологию как науку, изучающую личность жертвы преступления, подчеркивает, что одной из причин совершения преступлений является национальная принадлежность жертв. В статье приводятся исторические примеры, результаты виктимолого-социологических исследований в Свердловской области, подчеркивается прогностическое значение изучения названной проблематики.
Виктимология, толерантность, межэтнические отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14118522
IDR: 14118522 | УДК: 343.988
Текст научной статьи Влияние на виктимность личности национального происхождения жертвы
Обострение международных отношений, рыночное развитие экономики, изменения социальной структуры современного общества происходят под воздействием качественных сдвигов, вызванных масштабными преобразованиями социального, экономического, политического, правового характера. Результатом этих разнонаправленных процессов оказывается углубление социального неравенства, резкий рост безработицы, активизация социальной миграции, массовая десоциализация населения. В Российской Федерации эти негативные факторы приобретают ярко выраженные региональные аспекты. На фоне общего системного кризиса современного российского общества и государства они ведут к ускорению виктимизации социальных страт в количественном измерении и к качественному изменению стратификационных моделей виктимности [1].
В собственно криминологическом плане виктимологию можно рассматривать как науку, изучающую личность жертвы преступления, характер и содержание ее поведения, нравственно-психологический облик потерпевшего, роль жертвы в механизме преступного поведения. Жертва преступления с точки зрения виктимологии – это пострадавшее физическое лицо, независимо от того, признано ли оно потерпевшим в установленном законом порядке и считает ли себя таковым.
Следует отметить, что как западные, так и отечественные специалисты прежде всего акцентируют внимание не столько на морально-психологических, сколько на социальных характеристиках, повышающих вероятность преступного посягательства в отношении данной личности. С целью научного прогнозирования в области предупреждения преступности ученые стремятся выяснить, каким образом само положение в обществе безотносительно к личностным качествам занимающего его человека и безотносительно к его поведению повышает вероятность совершения преступлений определенного вида. Актуальность их исследований возрастает в условиях масштабных трансформаций общественных процессов глобального характера, характерных для последних полутора-двух десятилетий.
Известный ученый, исследователь виктимологических характеристик жертв доктор юридических наук К. В. Вишневский сгруппировал свойства личности жертв преступлений [2]:
-
• социально-демографические признаки жертвы: пол, возраст, семейное положение, профессиональная или национальная принадлежность, материальная и жилищная обеспеченность;
-
• интеллектуальные признаки жертвы: образование, уровень знания, умственное развитие;
-
• нравственные признаки: ценностные ориентации и стремления, духов-
- ные потребности, социальные интересы, религиозная направленность, привычки;
-
• психические процессы, свойства и состояния в личности жертвы: эмо-цио-нальная устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию;
-
• физиологические признаки жертвы: состояние здоровья;
-
• уголовно-правовые и криминологические признаки: форма вины, роль в совершении преступления, рецидив виктимности.
Среди названных свойств жертв преступлений — национальная принадлежность, что вызывает пристальное внимание, поскольку национальные конфликты влияют на сохранение целостности государства, его безопасности и суверенности.
Примером национальной принадлежности жертвы как причины совер-ше-ния преступлений является факт: для г. Иркутска и Иркутской области характерно, что повышенной способностью становиться жертвами самых различных преступных посягательств обладают китайцы, а также представители других азиатских национальностей, ведущие в данной местности бурную торговую деятельность.
Примером определения национальности как критерия повышенной виктимности может служить дореволюционный период, когда евреи испытывали существенные ущемления в своих правах: введенная императором Александром III черта оседлости, квоты для поступления лиц еврейской национальности в высшие и учебные заведения. Временное правительство, а после Октябрьского переворота 1917 года советская власть прекратила дискриминацию евреев.
Требование в советский период указывать в паспорте национальность гражданина само по себе, возможно, ещё не является дискриминацией, но проблема состоит в том, что паспортные данные в отдельные периоды советской истории использовались для применения дискриминационных мер. Следует отметить, что в основе обостренного внимания к этой проблеме лежал страх возвращения к политике ограничения прав иной национальности, страх перед изменением этнического состава.
Общее количество репрессированных по «национальным операциям» (польская, финская, эстонская, румынская и др.) только за два года в 1937–1938 гг., составило по архивным источникам 335 513 человек, из которых приговорено к расстрелу 247 157, то есть 73,6 % [3, с. 22]. В современной исследовательской литературе отмечена следующая цифра: около 6 млн граждан изгнано со своей земли [4, с. 337]. Можно лишь согласиться с авторитетными российскими правоведами в том, что «национальные операции», а фактически – попрание элементарной законности, преследовали две цели - военно-политическую и социальную.
В послевоенный период началась ревизия истории национальных отношений в России и СССР, в ходе которой любые национальные движения рассматривались как реакционные. Усилилось давление на традиции и культуру «малых народов». Так, в 1951 году началась критика национального эпоса мусульманских народов как «клерикального и антинародного» [5, с. 262]. Особого размаха национальная нетерпимость достигла в отношении еврейской нации. Созданный в годы войны Еврейский антифашистский комитет во главе с С. Ми-хоэлсом в послевоенное время стал центром национального объединения, представители которого предлагали создать еврейскую автономию в Крыму или Поволжье. Это предложение было расценено властями как «проамериканский сионистский заговор», в 1948 году начались репрессии обвиненных в космополитизме членов комитета, в 1952 году состоялся закрытый судебный процесс, приговоривший его лидеров к расстрелу. Одновременно власти начали выделять русский народ в качестве «наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза». По существу это свидетельствовало о возврате И. В. Сталина к идее «автономизации», на началах которой он предлагал создать союзное государство еще в 1922 году.
Основополагающим документом, определяющим политику органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере межэтнических отношений в современный период развития, является Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Необходимо подчеркнуть следующую тенденцию, а именно: принадлежность к русскому населению является причиной или способствует совершению преступления. Так, к примеру, в Адыгее, Дагестане, Татарстане, Якутии и др. ущемление прав русских приобрело значительные масштабы. Регионом с наиболее развитой этнической нетерпимостью остается Северный Кавказ и прежде всего Чечня, где произошло вытеснение русскоязычного населения: по данным Всесоюзной переписи 1979 года, русских в ЧеченоИнгушской АССР было около 30% от всего населения республики [6, с. 366], по переписи 2002 года их в Ингушетии и Чеченской Республике осталось в сумме около 3% [7, с.946], по переписи 2010 года в республике Ингушетия русских 0,8 %, в Чеченской Республике – 1,9 %.
В данных регионах повышенной способностью становиться жертвами самых различных преступных посягательств обладают русские. В большинстве национальных республик произошло постепенное их вытеснение из аппарата и структур исполнительной власти, из банковского сектора, из основных СМИ, из наиболее прибыльных сфер экономики. Показательным можно считать пример Татарстана, где татары составляют около половины населения республики – 53,24 % (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г), но при этом они занимают от 75% до 85% руководящих мест. В школах Татарстана на изучение татарского языка отводится времени в полтора раза больше, чем русского.
Проведенное исследование в 2010– 2012 гг. в г. Екатеринбурге в микрорайоне компактного проживания этнических групп, в рамках которого опрошено 464 человека (половину респондентов – 232 человека составили постоянно проживающие в городе представители национального большинства, вторую половину опрошенных составили представители национальных меньшинств, их них: узбеки – 42 % , таджики – 23 %, киргизы – 28 %, армяне – 2 %, китайцы – 5 %), выявило ряд проблем [8, с. 128].
Результаты проведенного виктимолого-социологического исследования показали негативную оценку респондентами межэтнических взаимоотношений. Наличие в регионе межнациональных конфликтов отметили более двух третьих опрошенных.
Важно отметить, что 57,5% представителей этнического меньшинства указали на то, что им приходилось испытывать ущемление своих прав из-за национальной принадлежности, 53,5% респондентов этой категории отметили наличие в регионе разной степени межнациональной конфликтности. Острота национального вопроса подтверждается и тем, что половина респондентов испытывает трудности в общении с людьми других национальностей. Причем национальное большинство отличается более высоким уровнем ксенофобии.
Так, среди русских респондентов 54% указали на то, что с трудом общаются с людьми других национальностей, среди представителей национального меньшинства такой вариант ответа выбрали 32%. На первый взгляд, потенциал национального экстремизма не слишком высок, поскольку лишь 11% респондентов ответили, что готовы участвовать в акциях, имеющих националистический характер: 12,5% среди русских респондентов и 9,3% среди респондентов других национальностей. Однако нельзя не обратить внимание, что каждый пятый затруднился с ответом, то есть не исключал для себя возможности участия в националистических выходках.
Основными причинами возникновения межэтнических конфликтов респонденты считают следующие: представители этнического большинства – несовершенство законов 27,5%, культурное различие 25%, социальные и имущественные проблемы 38 %; представители национальных меньшинств — несовершенство законов 18,6 %, культурное различие 33,8 %, социальные и имущественные проблемы 44,2 %.
Кроме того, представителями этнического большинства географическая близость Екатеринбурга к государствам Средней Азии воспринимается с настороженностью (61 %). Брак и дружбу большинство опрошенных (русские) определяют для себя возможными только с представителями русской национальности или европейцами (на втором месте по значимости).
Данное виктимолого-социологиче-ское исследование доказывает влияние на виктимность личности национального происхождения жертвы.
Таким образом, высокие темпы миграции, в том числе незаконной, существенно изменяют этнический состав области, что создает предпосылки для обострения криминогенной обстановки. Виктимолого-социологические исследования во многом как раз нацелены на решение межэтнических проблем, поскольку их объектом являются все жертвы пре- ступлений: и учтенные официальной статистикой, и латентные. Проведение виктимологических исследований способствует выявлению жертв преступлений и тем самым расширяет возможности специалистов в получении объективной картины не только виктимизации населения, но и состояния латентной преступности.
Список литературы Влияние на виктимность личности национального происхождения жертвы
- Вишневецкий К. В. Криминальная виктимология: социальный аспект//Юрист. 2006. № 5. -URL: http://www.center-bereg.ru/m3607.html (дата обращения 01.04.2015).
- Вишневский К. В. Структура виктимологической характеристики жертвы//Теория и практика общественного развития. 2013. № 9.
- Петров И. В., Рогинский А. Б. «Польская операция» НКВД 1937-1938 гг.//Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997.
- Политический режим и преступность/под ред. В. Н. Бурлакова, Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб., 2001.
- Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX век. М.: Просвещение, 2013.
- Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М.: Финансы и статистика. 1985.
- Национальный состав, владение языками, гражданство. ИИЦ «Статистика России» (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: в 14 томах//Федеральная служба гос. статистики. Т. 4. М., 2004.
- Петухова Т. Н. Межэтническая толерантность в России: теоретико-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013