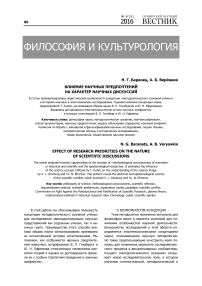Влияние научных предпочтений на характер научных дискуссий
Автор: Баранец Н.Г., Вервкин А.Б.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы эвристические возможности концепции «методологического сознания учёных» в историко-научных и эпистемических исследованиях. Оценено влияние концепции науки, предложенной Т. Куном, на понимание образа науки В. Л. Гинзбургом и Ю. Н. Ефремовым. Выявлены доктринально-эпистемологические истоки научных конфликтов, в которых участвовали В. Л. Гинзбург и Ю. Н. Ефремов.
Философия науки, методологическое сознание, научная рефлексия, способ аргументации, научные предпочтения, модель объяснения, парадигма, научный конфликт, комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, теория плазмы, математические методы в исторических исследованиях, новая хронология, общественное научное мнение
Короткий адрес: https://sciup.org/14114212
IDR: 14114212
Текст научной статьи Влияние научных предпочтений на характер научных дискуссий
В этой работе мы обосновываем полезность концепции методологического сознания учёных для исследования эволюционирующих научных представлений как отдельных учёных, так и научных групп. Преимущество этого способа анализа образа науки иллюстрировано примерами из отечественной истории естествознания. Мы покажем, как особенности научных предпочтений известных астрофизиков В. Л. Гинзбурга и Ю. Н. Ефремова относительно механизмов развития теорий и оценки их достоверности привели их к особым стратегиям поведения в научных конфликтах.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОНЦЕПЦИИ
Тема методологии неизменно актуальна для философии науки и является ключевой для понимания особенностей научной деятельности. Большинство исследований в этой области определяется эпистемологическими концепциями науки, описывающими научную методологию. Но такие предписывающие конструкты мало полезны для понимания реального исследовательского процесса в дисциплинарных сообществах. Концепт «методологического сознания» открывает новое исследовательское поле, в котором изучение онтологической, методологической и исторической рефлексии учёных соединяется с её эпистемологической оценкой.
Тематический анализ истории методологии науки позволяет соединить сильные стороны микроистории и макроистории. Методологические темы в творчестве конкретных учёных раскрываются в устойчивых ядрах методологических программ научных групп. Проясняется превращение методологически значимого научного текста в эталон деятельности учёных. Интертеоретические представления и методологические предпочтения влияют на возникновение и характер эпистемических конфликтов.
Проблему анализа методологического сознания в отечественной эпистемологии и философии науки поставил А. П. Огурцов. Он предложил различать совокупность методов научной дисциплины и осмысление учёными методологии, применяемой ими для получения научного результата [1]. Научная рефлексия подробно обсуждалась отечественными эпистемологами. Дискуссия в этой области фокусировалась на выяснении механизма рефлексии в научном познании и на её гносеологическом статусе. Природа научной рефлексии рассматривалась в работах Е. А. Алексеевой, В. А. Бажанова, В. А. Лекторского, А. П. Огурцова, М. А. Розова, В. С. Швы-рёва.
Исследователи истории философии и методологии науки обычно следовали двум главным подходам. Микроистория методологии науки или микросоциолого-этнографическое описание работы отдельных научных групп была предложена Б. Латуром, С. Вулгаром и К. Кнорр-Цетиным. Макроистория методологии науки или социально-культурная археология знания, выявляющая инвариантные структуры, описывается через эпистемы М. Фуко, стили мысли М. Борна, парадигмы Т. Куна. Российский философ А. П. Огурцов предложил тематический анализ истории методологии науки через описание развёртывания методологических программ, борющихся за признание в научном сообществе.
БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОПИСАНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
-
1. Методологическое сознание учёных направлено на осмысление логико-философских проблем собственной науки, на выявление основных путей и методов её развития, связи между ней и другими науками [2]. В методологическом сознании учёных выделяются три уровня: философские концепции науки, конкретнонаучная методология и представления учёных о развитии научного знания. Сами учёные редко
-
2. Рефлексия учёных помогает осмыслению регулятивов, определяющих систему предпочтений, которыми учёные руководствуются во время создания и оценки научного продукта.
интересуются философскими концепциями науки, их рефлексия преимущественно направлена на систематизацию методов работы и на историю своей дисциплины.
В дисциплинарной рефлексии учёных, их размышлениях о статусе и месте своих идей в научной традиции выделяют несколько компонент.
Внутрисистемная или внутритеоретическая рефлексия учёного упорядочивает его собственное теоретизирование и научный дискурс, что выражается в метаязыковом описании собственного дискурса и в приведении его в соответствие с нормами дисциплинарного сообщества и требованиями логико-теоретической системности. Такой вид рефлексии не выходит за рамки направления или школы в рамках научной дисциплины и нацелен на улучшение имеющихся алгоритмов работы.
Метасистемная или внутридисциплинарная саморефлексия пытается привести научный дискурс в соответствие с решаемыми научными проблемами, изменяет границы и концептуальное поле дисциплины либо переосмысливает принципы научной школы или направления без разрыва с дисциплинарными основаниями. Она может быть направлена на определение общего понимания задач, предмета и методов дисциплины.
Методологическая дисциплинарная само-рефлексия различна по своим целям. Она может быть дидактической, при необходимости целостного учебного представления истории дисциплины; идентификационной, оценивающей состояние дисциплины и вписывающей свою концепцию в исторический контекст и традицию; эвристически-преобразовательной, создающей новый образ дисциплины выбором новых путей её развития.
Ивин А. А. выделяет следующие типы научных предпочтений [3]:
-
• такое истолкование истины, для которого идеалом науки является соответствие научных положений описываемой реальности (корреспонденция), а внутренняя согласованность утверждений (когеренция), их практическая полезность и другие истолкования имеют вспомогательное значение;
-
• эмпирическое обоснование знания предпочтительнее теоретического, а теоретическое обоснование надежнее контекстуального обос-
- нования — ссылки на традицию, на авторитеты, апелляции к здравому смыслу;
-
• объяснительные теории ценятся выше, чем описательные, которые в свою очередь предпочтительнее простой систематизации и классификации исследуемых объектов;
-
• объяснение на основе научного закона предпочтительнее объяснения, основанного на выявленных причинных связях;
-
• при построении и организации научного знания преимущество имеют базовые положения данной дисциплины, признанные в дисциплинарном сообществе безусловно достоверными;
-
• преимуществом пользуются обоснования, прошедшие фальсификацию (в ходе обоснования происходила критика выдвинутого положения, определялись его слабые места, и поэтому лишь те научные утверждения и теории, которые прошли через всестороннее критическое рассмотрение, принимаются научным сообществом);
-
• в научных дискуссиях легитимными считаются корректные приёмы, аргументированное изложение своей позиции, высказывание несогласия по существу обсуждаемой проблемы, исключаются споры ради победы и утверждение собственной позиции и системы ценностей любой ценой.
-
3. При анализе научной методологии следует прояснять то, как учёные осмысливали цели научного знания, возможность приложения его достижений, его дисциплинарную структуру, место своей дисциплины в составе научного знания, специфику методов научной дисциплины и её методологические принципы. Но сами учёные обычно высказываются лишь об отдельных аспектах своей работы, что требует от исследователя реконструкции его идей через изучение его монографий, курсов лекций, публичных выступлений, частной переписки и воспоминаний о нём современников.
-
4. Методологическое сознание учёных формируется под воздействием реальных научных
-
5. Возможно различие между тем, как учёный объясняет свою научную деятельность и его реальной работой. Расхождение возникает при несоответствии осуществляемой практики сложившимся стандартам методологической интерпретации науки.
Научная деятельность опирается на убеждённость в реальности исследуемых объектов, в том, что они остаются одинаковыми во время исследований и независимы от учёного, не являются продуктом его фантазии и его личной конструкцией. Научный реализм сочетается с исследовательской установкой учёного на объективность, т. е. непредвзятость в анализе исследуемого объекта. Кроме того, в естественнонаучном знании большое значение имеет уверенность в том, что наблюдение и эксперимент играют решающую роль в признании или отбрасывании научных положений.
задач и поисков приемлемых способов их решения. Также важно воздействие на учёных стиля научного мышления, доктрин и принятых в научном сообществе идеалов и норм научной деятельности. Последние содержат представления об истинности, новизне, полезности научного знания и приемлемых способах его получения. Необходимо заметить, что современное понимание методов научного исследования сложилось в течение последнего столетия.
КОНЦЕПЦИЯ ТОМАСА КУНА КАК СТИМУЛ ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Из всех западных философских концепций развития науки на отечественных физиков, когда-либо интересовавшихся этой темой, более всего повлияли идеи американского социолога науки Томаса Куна. В 1962 году Кун опубликовал книгу «Структура научных революций», где по-новому представил заявленную тему и проанализировал господствующие представления в научном сообществе. В 1975 году книгу опубликовали в Советском Союзе на русском языке. Кун заявлял, что наука развивается через смену долгих периодов существования «нормальной науки» разрушающими её научными революциями. Кун подробно описывал «нормальное» функционирование науки, обеспечивающее совокупность достижений научного знания. Научные революции трансформируют восприятие учёных, что сопровождается изменениями в языке, структуре проблем и стандартов проведения исследований. Состояние нормальной науки Кун описал понятием «парадигма». Парадигма по Куну — это теория, принятая научным сообществом в качестве образца, приводящая к наиболее быстрому и эффективному решению поставленных проблем. Кун способствовал распространению социологического и историцист-ского взгляда на науку.
Под воздействием критики Поппера и Лакатоса Кун скорректировал свою модель нормальной науки, введя понятие «дисциплинарная матрица». По определению Куна, в дисциплинарную матрицу входят четыре компонента. Символические обобщения — «выражения, используемые членами научной группы без сомнений и разногласий, которые могут быть без особых усилий облечены в логическую форму».
Метафизические части парадигмы — общепризнанные предписания и убеждения в концептуальных моделях. Ценности , подразделяемые на те, что касаются предсказаний, и те, что используются для оценки теорий, в целом определяющие ценности и идеалы науки. Парадигма — образцы конкретных решений проблем, «с которыми сталкиваются студенты с самого начала своей подготовки в лабораториях, на экзаменах или в конце глав используемых ими учебных пособий». Резюмируя эпистемологические дискуссии по поводу парадигмы, В. Н. Порус определил её как « образец рациональной деятельности учёного, принятый и безоговорочно поддерживаемый научным сообществом; в соответствии с этим образцом формулируются и разрешаются концептуальные, инструментальные и математические задачи. Содержание парадигмы зависит от характера научной дисциплины, степени её зрелости, структуры фундаментальной научной теории, разработанности математического аппарата, методологического оснащения, экспериментальной техники, а также от явных и неявных традиций исследовательской работы, передаваемых от поколения к поколению учёных » [4]. Содержание научной парадигмы выражено в трудах признанных научных лидеров и закреплено в учебных программах подготовки научных кадров. Парадигма функционирует как «дисциплинарная матрица», т. е. набор предписаний (законы фундаментальных теорий и определения основных понятий, «метафизические компоненты», ценностные критерии предпочтений) относительно решения конвенциональных задач.
Вопреки своим намерениям, Кун способствовал распространению идеи перманентной революции в науке и субъективного релятивизма в философии науки. « Прогресс науки оказался отягощён разрывами и «сменой парадигмы». Прервав кумулятивистскую линию в трактовке истории науки, эта книга не только заставила взглянуть на историю науки социологически, но и осознать её как предприятие, совершаемое научным сообществом » [5].
В. Л. ГИНЗБУРГ О РАЗВИТИИ НАУКИ
И ОЦЕНКА ТЕОРИИ ПЛАЗМЫ А. А. ВЛАСОВА
Известный российский физик, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, доктор физикоматематических наук В. Л. Гинзбург1 размышлял о закономерностях развития своей дисциплины и науки в целом. По предложению редакции журнала «Природа» он высказался о книге Куна «Структура научных революций», о причинах смены научных теорий и способов их обоснования. Гинзбург отметил содержательную неопределённость ключевых понятий концепции Куна — «парадигма», «нормальная наука», «аномалия». Он отрицал новизну главной идеи книги о смене периодов медленного, эволюционного развития науки периодами кризиса и резкого перехода к новым представлениям. Ведь эта мысль была осознана естествоиспытателями ещё в первой четверти ХХ века. Фундаментальные недостатки концепции Куна, по его мнению, таковы: «непонимание принципа соответствия и, конкретно, соотношения между старыми и новыми теориями принципиального значения; отсутствие в ряде случаев подлинного историзма или, если угодно, непонимание неоднородности развития науки…» [6]. Гинзбург полагал, что термин «научная революция» по Куну бесполезен, так как феномены изменения науки различаются масштабами и глубиной преобразования принципов. Бессмысленно заниматься их сравнением и классификацией (самая важная, самая глубокая, вторая по важности).
Каковы критерии оценки нового научного продукта, выпадающего из рамок сложившейся научной парадигмы? Как проверить теорию и какова здесь роль «научного общественного мнения»? Гинзбург многократно вовлекался в научные споры2, выходившие за пределы нормальной научной дискуссии. Участие в конфликтах между конкурирующими исследовательскими программами заставило Гинзбурга сформулировать своё понимание критериев оценки принципиально новых, оригинальных научных идей. «Разумеется, основной метод — сравнение с опытом, с наблюдениями… Вместе с тем нельзя всё сводить к экспериментальной проверке. При достигнутой точности измерений и рой проблем физики и астрофизики МФТИ (1968). Лауреат Сталинской (1953) и Ленинской (1966) премий, пяти советских орденов (1954, 1954, 1956, 1975, 1986) и двух российских (1996, 2006), золотых медалей М. В. Ломоносова и С. И. Вавилова (1995, 1995). Член Президиума Российского еврейского конгресса (1996), организатор и член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН (1998), Нобелевский лауреат по физике (2003). Автор более 20 монографий и 400 научных работ.
-
2 Например, в 1946 г. он выступил против А. А. Власова по теории плазмы, в 1988—1990 гг. он критиковал теорию гравитации А. А. Логунова.
ограниченном числе экспериментов все они могут оказаться совместимы со многими теориями. Часто, правда, и точность столь высока, и экспериментов так много, что для определённого круга вопросов и явлений практически все сомнения в справедливости теорий отпадают » [7]. Может ли быть продолжено обсуждение и корректировка научной теории, если она принята большинством специалистов? В дискуссии с А. А. Логуновым относительно ОТО В. Л. Гинзбург обратился к историческим примерам, истолковав их в нужном ключе: « Великий Галилей ещё четыре столетия тому назад говорил: в вопросах науки мнение одного бывает дороже мнения тысячи. Иными словами, большинством голосов научные споры не решаются. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что мнение многих физиков, вообще говоря, значительно убедительнее, или, лучше сказать, надёжнее и весомее, мнения одного физика… Мне представляется, что это замечание, определяющее роль «научного общественного мнения», совершенно справедливо. Между тем А. А. Логунов оценивает это замечание словами: «если бы это было так, то наука давно бы остановилась». Таким образом, мы с А. А. Логуновым абсолютно по-разному понимаем процитированные выше слова… для подлинного успеха в науке свободная мысль обязательно должна сочетаться с большой самокритичностью и уважением к работе предшественников, и особенно великих предшественников » [8].
Гинзбург В. Л. ратовал за «фундаментальность» или «здоровый консерватизм», которого, по его мнению, придерживались Л. И. Мандельштам, И. Е. Тамм и Л. Д. Ландау. Все они были творцами новой физики, но не занимались обобщениями теорий без серьёзной на то причины. Не нужно мешать выдвигать новые гипотезы, пока не проявилась непригодность имеющихся представлений, но таким новаторам не стоит ждать благожелательного приёма от «здоровых консерваторов».
Собственный опыт В. Л. Гинзбурга оценки научных идей показателен в контексте заявленного им кредо. Бывало, что при его активном участии «общественное научное мнение» пересиливало требования непредвзятости научного этоса. В 1940—60-е годы он с рядом коллег критиковал теорию плазмы А. А. Власова. Метод Власова был оспорен Л. Д. Ландау, М. А. Леонтовичем, В. А. Фоком и В. Л. Гинзбургом в разгромной статье «О несостоятельности работ А. А. Власова по обобщенной теории плазмы и теории твёрдого тела» [9]. В этом журнале от- казались опубликовать ответ Власова на критику. Истинная причина этого конфликта заключалась в борьбе за кафедру теоретической физики МГУ1. Вопреки декларациям статьи [9] об ошибочности дисперсионного уравнения Власова, в 1955 году Ван Кампен в работе «К теории стационарных волн в плазме» доказал его правоту.
Самостоятельность научных решений была для А. А. Власова философско-мировоззренческим выбором. Судить об этом мы можем по его полемическому докладу на организационном комитете Всесоюзного совещания по философским вопросам физики в 1949 году: «Может показаться, что теоретическая физика, возглавляемая некоторыми физиками-теоретиками, не подлежит критике. Наоборот, общее направление кажется весьма прогрессивным. Эти учёные являются представителями передовых физических теорий нашего времени: квантовой и релятивистской механики. Плодотворная деятельность некоторых физиков-теоретиков, кажется, не подлежит никакому сомнению, достаточно перелистать журналы по физике — они заполнены многочисленными работами самих физиков-теоретиков, их учеников, статьями со ссылками на эти работы в русских и иностранных журналах. Однако во многом это лишь внешняя сторона, за которой скрывается часто поразительная творческая безыдейность, примат неглубокой вычислительной техники, формы над живой мыслью, некритическое, формальное освоение физических теорий. Хотя направление в теоретической физике, о котором идёт речь, привело к ряду положительных результатов, всё же эти результаты получены в рамках соответствующих теорий, созданных за рубежом. Нам сейчас этого мало. Можно утверждать, что за последние 20—25 лет самостоятельного крупного направления в теоретической физике не создано… Мы имеем дело со школами в организационном отношении, но не со школами с выращенными собственными научными направлениями, подобно, например, школе Павлова в физиологии… Характер творчества этих учёных может быть охарактеризован в своей основе как техническое совершенствование некоторых отдельных деталей современного здания теоретической физики. Работы не вскрывают каких-либо существенно новых положений, затрагивающих принципы физических теорий, не дают какого-либо намёка на существенное их обобщение…» [10].
Научная смелость и нежелание ходить в общем строе приводили к отторжению его идей коллегами, не могущими в полной мере разобраться в его работах. «Идеи, высказываемые А. А. Власовым, были в значительной мере нетривиальны для своего времени и зачастую вызывали ожесточённые споры. А. Сахаров в своих воспоминаниях приводит ещё один пример — предложение А. А. Власова использовать термодинамические понятия с малым числом частиц. Сразу после войны это вызвало резкое неприятие у многих физиков. А несколько позже оказалось, что при определённых условиях и системы с малым числом частиц могут быть эргодическими» [11]. Власов не боялся выступать против сложившихся мнений, даже если они принимались большинством специалистов. Так, по теории индийского физика М. Саха, в слабоиони-зированной плазме степень ионизации уменьшается с ростом концентрации нейтрального газа при постоянной температуре. Власов с соавторами (А. А. Введенов, М. А. Яковлев, В. А. Алексеев) теоретически и экспериментально доказали, что при большой плотности нейтрального газа свойства холодной плазмы радикально меняются — с ростом концентрации нейтрального газа степень ионизации растёт. Они открыли закон понижения потенциала ионизации атомов в плотной слабоионизированной плазме при росте концентрации нейтрального газа из-за взаимодействия ионов с нейтральными атомами и притяжения между ионами при посредстве нейтрального газа. Это открытие кардинально изменило представления о роли нейтрального газа в плазменных явлениях и способствовало решению важных научных и технических проблем. Были созданы новые типы — магнитогид- родинамические генераторы электроэнергии, преобразователи теплоты в электроэнергию.
В памяти отечественного физического сообщества воспоминания об этом научном конфликте затирались. В. Л. Гинзбург в 1940-е годы не был инициатором спора, он лишь поддержал «старших товарищей», движимых личными мотивами. Позднее, когда стала очевидна значимость сделанного Власовым открытия, Гинзбург не упомянул этого эпизода в научной автобиографии и не указал статью «О несостоятельности работ А. А. Власова …» в списке трудов [12]. Эта статья выпала из Собрания трудов Л. Д. Ландау (Москва, 1969) и даже не упоминается в списке литературы. И только публикация статьи А. Ф. Александрова и А. А. Рухадзе «К истории основополагающих работ по кинетической теории плазмы» [13] заставила Гинзбурга вспомнить о той истории [14]: « В целом работы Ландау и работа Власова заслуживают высокой оценки. Тот факт, что Власов не понял и не учёл возможности бесстолкновительного затухания волн, является, конечно, существенным недостатком его работы. В свою очередь Ландау далеко не исчерпал вопрос о бесстолкновительном затухании. Такой ситуации нельзя удивляться, нетривиальные научные работы, как правило, развиваются и уточняются. Но вот развитие бывает разное. А. А. Власов так увлёкся применением самосогласованного приближения теории плазмы, что решил применять такое же приближение и в случае короткодействующих сил, в частности, в твёрдых телах. Однако такой подход, вообще говоря, совершенно неверен ». Однако, специально изучив эту проблему, в 2014 году Рухадзе нашёл в приложении к работе Власова 1945 года [15] точное решение начальной задачи для плазменных колебаний и для модельной функции распределения электронов. Власов выяснил, что плазменные колебания затухают со временем, причём затухание не связано со столкновениями и обусловлено поглощением электронами. Рухадзе заключил, что не только уравнение Власова, но и описание бесстолкновительного затухания плазменных волн надо связывать с именем Власова, а не с именем Ландау [16].
Гинзбург чистосердечно сообщил мотивы, которыми он вместе с коллегами руководствовался в разгромной статье «О несостоятельности работ А. А. Власова…». Оправдав былую критику вопреки контексту развития теории плазмы, он добавил, что на «физические ошибки» не обратили бы внимания, если бы Власов, мешая И. Е. Тамму, не претендовал на долж- ность зав. кафедрой теоретической физики МГУ и не агитировал за «новаторскую физику» с призывами «искать новых путей в науке» [14].
Гинзбург В. Л. к 1980-м годам имел вполне оформившиеся научные предпочтения и понимание образа науки. Его историко-методологическую рефлексию стимулировали обстоятельства собственной биографии и обращения к нему философов науки и науковедов. И это определённо проявилось в его споре с А. А. Логуновым относительно ОТО [17].
Ю. Н. ЕФРЕМОВ О ЛЖЕНАУКЕ И ЕГО УЧАСТИЕ В ИСТОРИКО-АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ
Астроном-наблюдатель Ю. Н. Ефремов1, помимо главных научных занятий, с 1980-х годов активно дискутирует по философским проблемам науки и применения естественно-научных методов в истории. Он состоит в Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН с самого её основания в 1998 году академиками В. Л. Гинзбургом и Э. П. Кругляковым. В своей работе Ефремов руководствуется самостоятельными суждениями о законах развития научного знания, концепции истины и критериях научности. Его понимание разделяют многие члены указанной Комиссии. Дискуссии, в которых участвовал Ефремов, локальны, но его негласный авторитет привлекает внимание к его экспертным суждениям в науковедческой области. Объявленная цель Комиссии — « публичная критика лженаучных воззрений, выработка рекомендаций по спорным научным вопросам, экспертиза теорий и разработок, претендующих на государственное финансирование, с целью исключения возможности получения шарлатанами и фальсификаторами средств из государственного бюджета » [18].
Как было сказано, Ю. Н. Ефремов своеобразно представляет себе закономерности развития научного знания. Борясь за идеалы очищенной от искажений науки, он отвергает идею научных революций и всю концепцию Куна в собственной интерпретации: «Концепцию революций в науке часто связывают с представлениями о том, что новое знание просто отменяет старое. В интерпретации врагов науки, каковыми являются философы постмодернизма и некоторые науковеды, эта концепция приводит к вы- воду об относительности, преходящести и субъективности научного знания. Это понимание обычно связывают с книгой Т. Куна, но, конечно, мнение о недостижимости объективного знания существовало и намного раньше. О том, что наше знание предопределено и ограничено специфически человеческим перцептивным и понятийным аппаратом, писали в том или ином контексте И. Кант, А. Эддингтон и многие другие… Нынешняя разновидность антинаучно настроенных науковедов, называемых «социологами познания», утверждает, развивая взгляды Куна, что научная истина является результатом соглашения исследователей между собой. Более того, враги науки договариваются до того, что социально обусловлены не только научные, но и математические истины» [19]. Отметим, что научные труды самого Ефремова, и в том числе его попытки астрономического датирования звёздного каталога «Альмагеста» Клавдия Птолемея, носят явные следы осуждаемого им конвенционализма, в том виде, как его понимают философы науки. Так, он никогда не обосновывает заимствованные методы и исторические мнения, подменяя их теоретические доказательства цитатами и ссылками на предыдущие, часто столь же неаргументированные работы. Ясно, что методологическая принадлежность к определённому исследовательскому кругу для Ефремова гарантирует незыблемую правильность научной рецептуры. Подобными идеями в значительной мере руководствовался академик В. Л. Гинзбург.
Напомним, что автором конвенциональной концепции истины был французский математик А. Пуанкаре, прекрасно осознававший фундаментальные проблемы математики и естествознания. Конвенционализм не является продуктом Куна и прочих «врагов науки» (если к ним Ефремов не причисляет Пуанкаре). В математике, полагал Пуанкаре, есть гипотезы, «только кажущиеся таковыми, но сводящиеся к определениям или к замаскированным соглашениям» [20]. К арифметическим соглашениям Пуанкаре относил законы коммутативности и ассоциативности. Точность математических наук вытекает из этих условных положений. Строгость математических рассуждений обеспечивается определениями: «Смутная идея непрерывности, которой мы обязаны интуиции, разрешилась в сложную систему неравенств, касающуюся целых чисел» [21]. Условные положения являются «продуктом свободной деятельности ума», но они не произвольны, так как опыт предоставляет свободный выбор и руководит нами, помогая вы- брать наиболее удобный путь. Среди современных отечественных математиков очень многие тяготеют к мягкому конвенционализму [22].
Декларативно астроном Ю. Н. Ефремов придерживается корреспондентской концепции истины в специфическом варианте, характерном для практиков, воспитанных на марксистско-ленинской идеологии. Он полагает, что существующая система научных понятий « адекватна нашему проникновению вглубь макро- и микромира », потому что « мы и наше сознание — дети нашей Вселенной ». Гносеологическая слабость такого аргумента очевидна. Ведь такими же «детьми Вселенной» были Птолемей, Рабан Мавр и Козьма Индикоплов, чьи модели мира заведомо устарели. Ефремов нигде не поясняет, как отличить «детей Вселенной» от её «пасынков», чтобы обосновать свою плодотворную работу в Комиссии и доказать неадекватность критикуемых гипотез. Фактически современное неявное соглашение становится для него неопро-вергаемым и последним словом науки.
Универсальным критерием истины для Ю. Н. Ефремова является практика: « Водородная бомба взрывается в согласии с основанной на квантовой механике теорией термоядерных реакций, развитой первоначально для объяснения источников энергии звёзд (и которая недавно была подтверждена регистрацией требуемого этой теорией потока нейтрино от Солнца); траектории межпланетных аппаратов и элементарных частиц в ускорителях планируются с учётом эффектов теории относительности, проявляющихся при больших скоростях. Иначе не сработает! » [23]. Однако вспомним, что первые электрические приборы появились, когда объяснение электрических и магнитных явлений опиралось на эфирную теорию. И пушки стреляли, несмотря на ошибочную теорию теплорода. Но рассуждения «от противного» несовместимы с научным методом Ефремова. Логический вывод в его системе прост и, по сути, совпадает с эквивалентностью. Такие рассуждения порой встречаются в гуманитарных областях, далёких от строгих теоретических построений. Чтобы не быть голословными, для примера укажем афоризм академика Ю. А. Полякова: « Неправильная фактическая посылка неизбежно ведёт к неправильным выводам ». Это ошибочное утверждение преподносится его академическими коллегами как образец научной мудрости [24].
По-видимому, Ю. Н. Ефремов иногда не отделяет теоретические модели, поясняющие некоторые наблюдения, от самих природных явлений. Идея теоретической нагруженности на- учного факта — того, что эксперименты и наблюдения предваряются некоторыми теоретическими предпосылками, моделями и понятийными соглашениями, — для него ничтожна. Он объявляет её «берклианством» — здесь очевиден отпечаток работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», заученной в научной юности. Популярные, но ошибочные теории прошлого Ефремов называет моделями-аналогами, позволяющими решать задачи. Сюда он относит систему Птолемея, эфир, флогистон. Но он верит, что современные учёные построили, наконец, и окончательные модели, отражающие объективную реальность. К ним Ефремов относит квантовую теорию, ОТО и «традиционную» хронологию древности1.
Воспроизводимость научного результата, по мнению Ю. Н. Ефремова, является важнейшим подтверждением истинности и доказывает достоверность фактов. Здесь мы видим позицию раннего позитивизма, вскоре отвергнутую последователями Конта. Ведь воспроизводимость возможна при неверной интерпретации фактов, обусловленной неадекватной теоретической моделью, в рамках которой проводятся наблюдения.
Образ науки Ю. Н. Ефремова кумулятивен. Развитие науки он видит непрерывным накоплением истин посредством принципа соответствия. По его мнению, теории, справедливость которых доказана для той или иной области физических явлений, с появлением новых, более общих теорий сохраняют своё значение как предельная форма и частный случай новых теорий. Новая теория объясняет явления, которые в старой теории не могли быть истолкованы. Революций в науке нет, есть только сменяющиеся этапы познания, связанные с именами Аристотеля, Коперника и Эйнштейна. Ефремова не интересуют точные временные границы этих этапов. До Коперника, Галилея и Ньютона было время пранауки, а потом появилась наука. Гипотезы интеллектуалов до этого времени — не «первые приближения к истине», а «мысленные аналоговые вычислитель- ные машины», например «модель мира Птолемея» и «теория флогистона». Мы видим, что мнения Ефремова об истории развития естествознания происходят из общих схем советских учебников философии 1960—70-х годов. Более поздние идеи истории развития науки в духе социологии знания Ефремов отвергает, объявляя «вражескими».
Ефремов Ю. Н. безапелляционно декларирует свою позицию, выступая в качестве носителя всей полноты научной истины. Обвиняя своих оппонентов в неэтичности, он порочит их научные способности: « К псевдонаукам следует отнести большую часть писаний философов постмодернизма и так называемой «социологии знаний». Приверженцы последней разновидности социологии, развивая взгляды Т. Куна и П. Фейе-рабенда, утверждают, что научная истина представляет собой лишь продукт соглашения исследователей между собой. Заметим сразу же, что один из создателей теории кварков Ш. Глэшоу точно заметил, что «наиболее строгими критиками науки оказываются, как правило, те, кто знаком с ней меньше всего». Это касается и отечественных «науковедов» — и «классиков» социологии науки, самые яростные из которых (наподобие Т. Куна) происходят из студентов, которым физика оказалась не по зубам… » [25].
Научные предпочтения Ю. Н. Ефремова касательно способов аргументации и понимания истины, манера дискутировать с раздачей уничижительных эпитетов своим оппонентам остро проявились в дискуссии об использовании математических и астрономических методов в исторических реконструкциях. Персональным врагом и воплощением лжеучёного для Ефремова стал академик А. Т. Фоменко — выдающийся отечественный математик и автор альтернативной модели исторического процесса, названной Новой Хронологией. Полемика между ними вначале проходила в нормальной академической форме, но вскоре по инициативе Ю. Н. Ефремова и поддержавшего его В. Л. Гинзбурга она перешла в острый научный конфликт.
События начались в 1987 году. Два астронома-наблюдателя из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ — д. ф.-м. н. Юрий Николаевич Ефремов и к. ф.-м. н. Елизавета Дмитриевна Павловская опубликовали статью [26], опровергающую выводы книги1 американского физика
Роберта Рассела Ньютона (1918—1991). Соавторы статьи объявили, что датировали звёздный каталог Птолемея по собственному движению звёзд эпохой Гиппарха, а не Птолемея (каталог «Альмагеста» был датирован ими 13 г. н. э. ± 100 лет). Для датировки изучалось изменение во времени конфигураций медленных звёзд, группирующихся около быстрой звезды, для чего измерялось среднеквадратичное отклонение совокупности неких попарных угловых расстояний в соответствующих конфигурациях.
Анонс опровержения результатов Р. Ньютона попал в редакторское предисловие русского перевода его книги (1985) за два года до публикации аргументов (статья была только что отдана в журнал). Впоследствии опубликованное не вполне соответствовало анонсу2, что может свидетельствовать о переделке статьи. В итоге опровержение Р. Ньютона оказалось ошибочным, о чём сообщили В. В. Калашников, Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко [27]. Истинная погрешность метода Ефремова и Павловской была на порядок выше заявляемой. О математических проблемах критиков Ньютона было написано в отдельной работе: «Точность этого метода оценивается снизу величиной индивидуальной ошибки рассматриваемой быстрой звезды, делённой на скорость её собственного движения. Эта оценка получается в предположении, что окружение рассматриваемой быстрой звезды измерено абсолютно точно. Учёт неточности измерений в совокупности с небольшим числом звёзд из окружения даёт существенную прибав- ку к ширине интервала датировки. Авторы без всяких оснований заменяют всюду неизвестную им индивидуальную ошибку на среднюю квадратичную. Точность предлагаемого метода моделирования, состоящего в многократном возмущении координат звёзд из «Альмагеста» некоторой случайной величиной, «сравнимой» с точностью каталога, ими не оценивается. А между тем он работает лишь в том случае, если в результате случайных возмущений координаты звёзд из «Альмагеста» станут близкими к истинным координатам с «заметной» вероятностью. В результате же влияния упомянутой индивидуальной ошибки такое попадание в окрестность истинных координат должно иметь малую вероятность, и в любом случае эту вероятность следует оценить. В работе нет и намёка на подобные оценки» [28]. Кроме того, метод сильно зависит от выбора окружения быстрой звезды, а для наиболее быстрых звёзд зависит от их отождествления, определяемого предполагаемой датой создания каталога. Отождествляя звёзды в неявном предположении о составлении каталога в начале новой эры, авторы получают в результате начало новой эры. После необходимого исправления метод Ефремова и Павловской даёт для каталога «Альмагеста» гораздо позднее время, чем традиционное начало новой эры. Вскоре новохронологи подтвердили свои выводы другим способом, о чём сообщили в статье, опубликованной в Докладах Академии наук [29].
Некоторые астрономы оспаривали выводы Фоменко с соавторами в подведомственных сборниках, пока в 1999 году в междисциплинарном журнале РАН в рубрике «Наука и общество» не появилась статья Ю. Н. Ефремова и Ю. А. За-венягина [30], рекомендованная академиком В. Л. Гинзбургом. Здесь отсутствовали астрономические или математические расчёты, связанные с датировкой «Альмагеста», но был продекларирован ряд выводов. Так, утверждалось, что при датировке каталога по долготам (по накопившейся прецессии) из рисунка А. К. Дамбиса получается 55 год н. э. «с точностью до нескольких лет», а по склонениям (экваториальным широтам) 18 звёзд японский астроном X. Майяма получил 130 год н. э. «с ошибкой не более 10 лет». Далее, как бесспорная, упоминалась статья Ефремова и Павловской [26]. Заявлялось о точном датировании III веком до н. э. птолемеевых данных о соединениях планет; указывались опечатки в птолемеевых данных, попавших в новохронологическую монографию 1995 года, исправленные в последующих публи- кациях. Авторы критиковали возможность наблюдения затмений в южных широтах, заявляли о точном датировании вавилонских табличек VII и последующими веками до н. э. и, наконец, поставили шесть риторических вопросов, на которые «академик Фоменко должен ответить». Последняя четверть статьи отведена историческому послесловию Ефремова. Рассуждая о научной этике, автор делится легендами о доко-перниковом гелиоцентризме Аристарха Самосского и Николая Кузанского. Он гордится принятием в зарубежный «Journal for History of Astronomy» своей публикации, которая будто бы разрешила многовековой спор об авторстве «Альмагеста», а результаты этой работы «попутно ещё раз отменяют "новую хронологию"». По поводу метода этой работы Ефремов сообщает: «Если использовать слишком малое число звёзд с большим собственным движением при сравнении широт и вообще абсолютных координат звёзд, можно получить почти какую угодно дату создания каталога, что Фоменко с соавторами и продемонстрировали. …Ныне персональный компьютер позволяет ставить задачи, немыслимые в прошлом, и появилась возможность подойти к проблеме датировки звездного каталога «Альмагеста» другим путём. …Именно это мы и сделали совместно с А. К. Дамбисом: по современным положениям и собственным движениям звёзд и их координатам в каталоге «Альмагеста» определили эпоху его наблюдения. При этом использовались все 1022 звезды, «медленные» звезды задавали систему координат»1.
Работа Ефремова и Завенягина переполнена необоснованными суждениями и эмоциональными лозунгами, нарушающими нормы научной дискуссии: «…эта деятельность оставалась известной лишь историкам, которые без труда опровергали её результаты. Однако их критика была полностью проигнорирована. …Слава Герострата пришла, наконец, к Фоменко. Его деятельность по отмене и истории, и историографии приобрела злокачественный характер и становится общественным явлением. Она сбивает с толку не только молодёжь, но и даже специалистов, не дающих себе труда разобраться в том, что именно Фоменко засыпает в математические жернова. …Трудно поверить, что серьёзный исследователь мог пойти на такое, и мы надеемся, что лишь крайняя увлечённость преобразованием истории не позволила Фоменко заметить полную необоснованность своих исходных предпосылок; мы надеемся, что он не обманывает нас, а искренне обманывается сам. …явно вздорные работы обычно не обсуждаются. Однако никакие публикации критиков Фоменко ничего не добавят к рекламе его сочинений…» [31]. Дальнейшие обстоятельства этого научного конфликта подробно описаны в книге «Математики об истории» [32].
Вышеописанные примеры наглядно демонстрируют влияние методологических предпочтений и убеждений учёных на оценку новых научных идей. Образ науки, включающий представление о закономерностях развития научного знания, проявление в нём конкуренции научноисследовательских программ, смены доминирующих научных теорий и трансформаций революционного характера, определяет отношение учёных к оригинальным научным гипотезам, не одобренных «общественным научным мнением».
Однажды Дж. Дж. Томсон отметил: « Исследование в прикладной науке приводит к реформам, исследование в чистой науке приводит к революции » [33]. Не удивительно, что учёный-практик принципиально отрицает научные революции, а теоретик постоянно наблюдает их и ждёт перемен. Отношение к образу науки, исторический кругозор учёного и его ожидания зависят от той повседневной научной деятельности, которую он привык выполнять.
-
1. Огурцов А. П. Развитие методологического сознания учёных XIX века и проблемы методологии науки // Методология науки: проблемы и история. М. : ИФРАН, 2003. С. 242—341.
-
2. Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Методологическое сознание российских учёных. Ч. 1.: XIX — начало XX века. Ульяновск : Изд-во «Гард», 2011. С. 235—240.
-
3. Ивин А. А. Человеческие предпочтения. М. : ИФРАН, 2010. С. 92—97.
-
4. Порус В. Н. Стиль научного мышления // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. С. 931—933.
-
5. Огурцов А. П. Философия науки: ХХ век : в 3 т. Т. 1. СПб. : Изд. дом «Мiр», 2011. С. 361.
-
6. Гинзбург В. Л. Как развивается наука? // Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике : статьи и выступления. 2-е изд. М. : Наука, 1992. С. 122— 135.
-
7. Гинзбург В. Л . О научно-популярной литературе и ещё коё о чём… // Гинзбург В. Л. О физике и
астрофизике : статьи и выступления. 2-е изд. М. : Наука, 1992. С. 194—199.
-
8. Гинзбург В. Л. Как проверить теорию и какова здесь роль «научного общественного мнения» // Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике : статьи и выступления. 2-е изд. М. : Наука, 1992. С. 198—199.
-
9. Гинзбург В., Ландау Л., Леонтович М., Фок В. О несостоятельности работ А. А. Власова по обобщенной теории плазмы и теории твёрдого тела // ЖЭТФ. 1946. Т. 16. С. 246.
-
10. Власов А. А. О теоретической физике // История и методология естественных наук. Вып. 37. Физика. М. : Изд-во МГУ, 1992. С. 250—258.
-
11. Базаров И. П., Николаев П. Н. Анатолий Александрович Власов. М. : МГУ, 1999. 84 с.
-
12. Гинзбург В. Л . Опыт научной автобиографии // Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике : статьи и выступления. 2-е изд. М. : Наука, 1992. С. 242—270.
-
13. Александров А. Ф., Рухадзе А. А. К истории основополагающих работ по кинетической теории плазмы // Физика плазмы. 1997. Т. 23. С. 474.
-
14. Гинзбург В. Л. О некоторых горе-историках физики // Вопр. истории естествознания и техники. 2000. № 4. С. 5—14.
-
15. Власов А. А. Теория вибрационных свойств электронного газа и её приложения // Учён. зап. МГУ. Физика. 1945. Вып. 75. Кн. 2. Ч. 1. 195 с.
-
16. Рухадзе А. А. Роль Б. Б. Кадомцева в судьбе А. А. Власова — объективность, смелость и благородство // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2, № 4. С. 434—435.
-
17. Логунов А. А. Новая теория гравитации // Наука и жизнь. 1987. № 2. С. 38; № 3. С. 60; Гинзбург В. Л. Общая теория относительности // Наука и жизнь. 1987. № 5. С. 66.
-
18. Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа : сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. СПб. : Изд-во ВВМ, 2013. С. 4.
-
19. Ефремов Ю. Н. Об объективности научного знания и революциях в астрономии // Историкоастрономические исследования. Вып. 28 / отв. ред. Г. М. Идлис. М. : Наука, 2003. С. 114.
-
20. Пуанкаре А. О науке. М. : Наука, 1983. С. 8.
-
21. Там же. С. 162.
-
22. Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Образы математики. Советские математики о науке. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. 330 с.
-
23. Ефремов Ю. Н. Об объективности научного знания и революциях в астрономии // Историкоастрономические исследования. Вып. 28 / отв. ред. Г. М. Идлис. М. : Наука, 2003. С. 117.
-
24. Поляков Ю. А. Историзмы. Мысли и суждения историка. М. : Собрание, 2007. 126 с. (цит. по: Вестн. РАН. 2008. Т. 78, № 1. С. 83).
-
25. Ефремов Ю. Н. Лженаука, псевдонаука и гипотеза // Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа : сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практич. конф. СПб. : Изд-во ВВМ, 2013. С. 30—44.
-
26. Ефремов Ю. Н., Павловская Е. Д. Датировка «Альмагеста» по собственным движениям звёзд // Докл. АН СССР. 1987. Т. 294, № 2. С. 310—313.
-
27. Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Датировка Альмагеста по переменным звёздным конфигурациям // Докл. АН СССР. 1989. Т. 307, № 4. С. 829—832.
-
28. Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Датировка звёздного каталога «Альмагеста». Статистический и геометрический анализ. М. : Факториал, 1995. С. 103.
-
29. Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Статистический анализ звёздного каталога «Альмагеста» // Докл. АН СССР. 1990. Т. 313, № 6. С. 1315—1319.
-
30. Ефремов Ю. Н., Завенягин Ю. А. О так называемой «новой хронологии» А. Т. Фоменко // Вестн. РАН. 1999. Т. 69, № 12. С. 1081—1092; в прологе В. Л. Гинзбург написал: « Совершенно бредовый характер некоторых утверждений
А. Т. Фоменко (например, он считает, что Иисус Христос родился в 1054 г. и был римским папой) и лженаучный в целом характер его "исторической" деятельности очевидны любому человеку, знакомому с азами истории человечества. Однако до сих пор я нигде не встречал ясного и чёткого анализа ошибок А. Т. Фоменко, в первую очередь в отношении используемого им астрономического материала. Этот пробел восполняет публикуемая ниже статья. Её авторы, анализируя "Альмагест" Птолемея, указывают на чудовищные по своей безграмотности и недобросовестности ошибки А. Т. Фоменко при использовании данных астрономических наблюдений » .
-
31. Там же. С . 1082.
-
32. Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Математики об истории. Вехи одного научного противостояния. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 210 с.
-
33. Цит. по: Бернал Дж. Наука в истории общества. М. : Изд-во иностранной литературы, 1956. С. 26.
Список литературы Влияние научных предпочтений на характер научных дискуссий
- Огурцов А. П. Развитие методологического сознания учёных XIX века и проблемы методологии науки//Методология науки: проблемы и история. М.: ИФРАН, 2003. С. 242-341.
- Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Методологическое сознание российских учёных. Ч. 1.: XIX -начало XX века. Ульяновск: Изд-во «Гард», 2011. С. 235-240.
- Ивин А. А. Человеческие предпочтения. М.: ИФРАН, 2010. С. 92-97.
- Порус В. Н. Стиль научного мышления//Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. С. 931-933.
- Огурцов А. П. Философия науки: ХХ век: в 3 т. Т. 1. СПб.: Изд. дом «Мiр», 2011. С. 361.
- Гинзбург В. Л. Как развивается наука?//Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 2-е изд. М.: Наука, 1992. С. 122-135.
- Гинзбург В. Л. О научно-популярной литературе и ещё коё о чём.//Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 2-е изд. М.: Наука, 1992. С. 194-199.
- Гинзбург В. Л. Как проверить теорию и какова здесь роль «научного общественного мнения»//Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 2-е изд. М.: Наука, 1992. С. 198-199.
- Гинзбург В., Ландау Л., Леонтович М., Фок В. О несостоятельности работ А. А. Власова по обобщенной теории плазмы и теории твёрдого тела//ЖЭТФ. 1946. Т. 16. С. 246.
- Власов А. А. О теоретической физике//История и методология естественных наук. Вып. 37. Физика. М.: Изд-во МГУ, 1992. С. 250-258.
- Базаров И. П., Николаев П. Н. Анатолий Александрович Власов. М.: МГУ, 1999. 84 с.
- Гинзбург В. Л. Опыт научной автобиографии//Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 2-е изд. М.: Наука, 1992. С. 242-270.
- Александров А. Ф., Рухадзе А. А. К истории основополагающих работ по кинетической теории плазмы//Физика плазмы. 1997. Т. 23. С. 474.
- Гинзбург В. Л. О некоторых горе-историках физики//Вопр. истории естествознания и техники. 2000. № 4. С. 5-14.
- Власов А. А. Теория вибрационных свойств электронного газа и её приложения//Учён. зап. МГУ. Физика. 1945. Вып. 75. Кн. 2. Ч. 1. 195 с.
- Рухадзе А. А. Роль Б. Б. Кадомцева в судьбе А. А. Власова -объективность, смелость и благородство//Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2, № 4. С. 434-435.
- Логунов А. А. Новая теория гравитации // Наука и жизнь. 1987. № 2. С. 38; № 3. С. 60; Гинзбург В. Л. Общая теория относительности // Наука и жизнь. 1987. № 5. С. 66.
- Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа: сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. СПб.: Изд-во ВВМ, 2013. С. 4.
- Ефремов Ю. Н. Об объективности научного знания и революциях в астрономии//Историкоастрономические исследования. Вып. 28/отв. ред. Г. М. Идлис. М.: Наука, 2003. С. 114.
- Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983. С. 8.
- Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Образы математики. Советские математики о науке. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. 330 с.
- Ефремов Ю. Н. Об объективности научного знания и революциях в астрономии//Историко-астрономические исследования. Вып. 28/отв. ред. Г. М. Идлис. М.: Наука, 2003. С. 117.
- Поляков Ю. А. Историзмы. Мысли и суждения историка. М.: Собрание, 2007. 126 с. (цит. по: Вестн. РАН. 2008. Т. 78, № 1. С. 83).
- Ефремов Ю. Н. Лженаука, псевдонаука и гипотеза//Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа: сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. СПб.: Изд-во ВВМ, 2013. С. 30-44.
- Ефремов Ю. Н., Павловская Е. Д. Датировка «Альмагеста» по собственным движениям звёзд//Докл. АН СССР. 1987. Т. 294, № 2. С. 310-313.
- Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Датировка Альмагеста по переменным звёздным конфигурациям//Докл. АН СССР. 1989. Т. 307, № 4. С. 829-832.
- Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Датировка звёздного каталога «Альмагеста». Статистический и геометрический анализ. М.: Факториал, 1995. С. 103.
- Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Статистический анализ звёздного каталога «Альмагеста»//Докл. АН СССР. 1990. Т. 313, № 6. С. 1315-1319.
- Ефремов Ю. Н., Завенягин Ю. А. О так называемой «новой хронологии» А. Т. Фоменко//Вестн. РАН. 1999. Т. 69, № 12. С. 1081-1092
- Баранец Н. Г., Верёвкин А. Б. Математики об истории. Вехи одного научного противостояния. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 210 с.
- Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. С. 26.