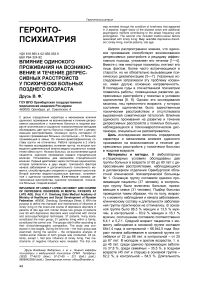Влияние одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных позднего возраста
Автор: Друзь В.Ф.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Геронтопсихиатрия
Статья в выпуске: 4 (61), 2010 года.
Бесплатный доступ
С целью определения характера и механизмов влияния одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных в позднем возрасте клиническим и социально-психологическим методами обследованы две группы больных старше 60 лет с депрессивными расстройствами. Основную группу составили 37 одиноко проживающих больных, контрольную - 31 больной, проживающий в семье. По клинико-демографическому составу группы не отличались. Работа проходила в 2 этапа. На первом исследовалась основная группа, на втором проводился сравнительный анализ медико-социальных показателей обеих групп. На всех больных, за исключением одной пациентки, одинокое проживание оказало отрицательное влияние. Установлены два механизма отрицательного влияния. Первый действовал через состояние одиночества, которое проявлялось в двух видах: триггерного фактора начала заболевания и дополнительного психогенного момента, способствующего учащению и удлинению приступов. Второй включал медико-социальные факторы, сопряженные с одиноким проживанием.
Депрессивные расстройства, одинокое проживание, психически больные, поздний возраст
Короткий адрес: https://sciup.org/14295438
IDR: 14295438 | УДК: 616.895.4-02-058-053.9
Текст научной статьи Влияние одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных позднего возраста
ББК Р64-324-92
ВЛИЯНИЕ ОДИНОКОГО
ПРОЖИВАНИЯ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА
Друзь В. Ф.*
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
460000, Оренбург, ул. Советская, 6
С целью определения характера и механизмов влияния одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных в позднем возрасте клиническим и социально-психологическим методами обследованы две группы больных старше 60 лет с депрессивными расстройствами. Основную группу составили 37 одиноко проживающих больных, контрольную – 31 больной, проживающий в семье. По клинико-демографическому составу группы не отличались. Работа проходила в 2 этапа. На первом исследовалась основная группа, на втором проводился сравнительный анализ медико-социальных показателей обеих групп. На всех больных, за исключением одной пациентки, одинокое проживание оказало отрицательное влияние. Установлены два механизма отрицательного влияния. Первый действовал через состояние одиночества, которое проявлялось в двух видах: триггерного фактора начала заболевания и дополнительного психогенного момента, способствующего учащению и удлинению приступов. Второй включал медико-социальные факторы, сопряженные с одиноким проживанием. Ключевые слова : депрессивные расстройства, одинокое проживание, психически больные, поздний возраст.
INFLUENCE OF LONELY LIVING ON ONSET AND COURSE OF DEPRESSIVE DISORDERS IN MENTAL PATIENTS AT LATE AGE. Druz V. F. Orenburg State Medical Academy of Ministry of Healthcare and Social Development of Russian Federation. 460000, Orenburg, Sovetskaya Street, 6. With the purpose to define the character and mechanisms of influence of lonely living on the onset and course of depressive disorders in patients of late age with mental illness two groups of patients over 60 with depressive disorders were examined with clinical and socio-psychological techniques. 37 patients, living alone, constituted the main group; 31 patients living within a family, constituted the control one. The groups didn't differ according to their clinical-demographic composition. The study was conducted in two stages. During the first one – the main group was examined; during the second – the comparative analysis of medico-social indexes of both groups was conducted. All patients, except I, had poor influence of lonely living. Two mechanisms of negative influence were revealed. The first one was revealed through the condition of loneliness that appeared in 2 aspects: trigger factor of the disease onset and additional psychogenic moment contributing to the attack frequency and prolongation. The second one included medico-social factors associated with lonely living. Key words: depressive disorders; lonely living, mental patients, late age.
Широко распространено мнение, что одинокое проживание способствует возникновению депрессивных расстройств и рецидиву аффективного психоза, утяжеляет его течение [1—4]. Вместе с тем некоторые психиатры считают его лишь фактом, более часто встречающимся в старости, но не обязательно вызывающим психическую декомпенсацию [5—7]. Указанные исследования затрагивали эту проблему косвенно, имея другую основную направленность. В последние годы в отечественной психиатрии появились работы, посвященные развитию депрессивных расстройств у пожилых в условиях одиночества [8, 9]. Однако эти исследования касались лиц преклонного возраста, у которых состояние одиночества было единственным психическим расстройством и отсутствовала выраженная соматическая патология. Влияние одинокого проживания на развитие и течение депрессивных расстройств у пожилых больных, наблюдающихся в психоневрологическом диспансере, специально не рассматривалось.
Цель исследования являлось определение характера и механизмов влияния одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных в позднем возрасте.
Материалы и методы. В амбулаторных и стационарных условиях обследованы две группы больных в возрасте от 60 до 80 лет с депрессивными расстройствами, наблюдающихся в диспансерном отделении Оренбургской областной клинической психиатрической больницы № 1. Основную группу составили одиноко проживающие пациенты (37 человек), в контрольную группу были включены больные, проживающие в семье (31 человек). Подбор больных проводился таким образом, что по полу, возрасту к моменту наблюдения и начала заболевания, клиническому составу и длительности заболевания группы практически не отличались. В основной группе было 86,5 % женщин и 13,5 % мужчин, в контрольной – 83,9 % женщин и 16,1 % мужчин, соотношение составило соответственно 6,4:1 и 5,2:1. Средний возраст пациентов к моменту наблюдения в основной группе составил 65±1,4 года, в контрольной – 66,9±2,5 года. Возраст начала заболевания в основной группе колебался от 22 до 68 лет, в контрольной – от 25 до 67 лет. В молодом и зрелом возрастах, т. е. до 45 лет, среди одиноко проживающих заболело 37,8 %, среди семейных – 35,5 %, в позднем возрасте (45 лет и старше) в основной группе – 62,2 %, в контрольной – 64,5 %. Длительность заболевания у одиноких варьировала от 4 до 24 лет (12,5±1,9 года в среднем), у проживающих в семье – от 5 до 26 лет (14,3±2,1 года). Длительность одинокого проживания была от 4 до 16 лет (8,5±1,8 года). В обеих группах значительно преобладали пациенты с эндогенным аффективным психозом (F31, F33 – 73 и 71 % соответственно), более чем в 5 раз реже наблюдались больные с сосудистыми заболеваниями (F06.32 – 13,5 и 12,9 %), ещё реже встречались больные шизофренией (F20, F25.1 – 8,1 и 9,7 %) и с экзогенно-органическими заболеваниями (F06.32 – 5,4 и 6,4 %). Синдромальная структура исследуемого контингента носила более гетерогенный характер. Ведущими в клинической картине на момент наблюдения были следующие депрессивные состояния: тревожные и тревожно-дисфорические (24,3 и 25,8 % каждые), ипохондрические (21,7 и 19,4 %), бредовые (18,9 и 16,1 %), значительно реже и с одинаковой частотой встречались тревожно-ипохондрические и анестетические (по 5,4 % и 6,5 %).
Использовались клинический и социальнопсихологический методы. Синдромальная оценка больных проводилась с учётом критериев «Глоссария психопатологических синдромов для клинической оценки больных психозами позднего возраста» [10]. Нозологическая форма заболеваний оценивалась по критериям отечественной классификации и МКБ-10 [11]. Психиатрические данные получены путем анализа медицинской документации (истории болезни и амбулаторные карты), опроса больного и наблюдения за ним, опроса родственников больного и лечащего врача диспансера и стационара.
Поскольку большое значение в течении депрессивных расстройств у больных имеет их соматическое состояние [4], мы исследовали его, применяя шкалу оценок, заимствованную из работы Ю. М. Данилова [12], который выделял три уровня: высокий – компенсация и субкомпенсация, средний – умеренно выраженная декомпенсация и низкий – выраженная и тяжелая декомпенсация.
Исходя из биопсихосоциальной модели генеза психических расстройств [13], мы изучали социально-психологические и социально-бытовые факторы. Социально-психологическим методом (анкетирование, интервьюирование по с пециально разработанной программе больного, родственников, соседей, лечащего врача диспансера и стационара) определялись взаимоотношения пациентов с членами семьи до её распада, его причины, наличие у больных состояния одиночества, отношения их с опекунами и соседями. Социально-бытовые данные содержали сведения об уровне образования, жилищных условиях, материальном обеспечении, трудовой деятельности и инвалидности.
В связи с тем, что объективными критериями тяжести течения депрессивных расстройств являются госпитализации и суицидальные попытки больных, мы исследовали удельный вес госпитализированных пациентов, частоту и длительность их стационирования, а также долю больных, совершивших суицидальные попытки, в обеих группах. Анализ проводился за последние 5 лет согласно рекомендациям И. Я. Гуровича, А. Б. Шмуклера [14].
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной программы «Statistica 5.0».
Результаты и обсуждение. Работа проходила в два этапа. На первом исследовалась основная группа. На втором проводился сравнительный анализ медико-социальных показателей обеих групп.
На первом этапе установлено, что на всех больных, за исключением одной (больная с эндогенным аффективным психозом), одинокое проживание оказало отрицательное влияние, у них развилось состояние одиночества. Под состоянием одиночества нами понималось в соответствии с концепцией R. S. Weis [15] тягостное переживание, связанное с дефицитом социальных связей или их неудовлетворенностью. Так же, как и другие авторы [8, 9, 15], мы рассматривали его на трёх уровнях: интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом. На интеллектуальном уровне это представления и мысли в связи с ситуацией одиночества, на эмоциональном уровне – это разнообразные расстройства депрессивного спектра (чаще всего дистимии), на поведенческом уровне – снижение активности, падение работоспособности, стремление ограничить или расширить общение с другими людьми.
Больные основной группы в зависимости от начала одинокого проживания по отношению к началу заболевания были разделены на две подгруппы. В первую вошли больные, у которых одинокое проживание предшествовало началу заболевания, во вторую – пациенты, у которых одинокое проживание наступило во время болезни.
Первую подгруппу составили 24 больных, из них более 2/3 (70,8 %) приходилось на пациентов с эндогенным аффективным психозом, 1/5 (20,8 %) – на больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга и 8,3 % – на больных шизофренией. Более чем у 1/3 больных наблюдались тревожные депрессии (37,5 %), у 1/5 (20,8 %) – ипохондрические, несколько реже встречались бредовые (16,7 %) и значительно реже с одинаковой частотой – тревожно-ипохондричские, тревожно-дисфорические и анестетические (по 8,3 %). Почти у 2/3 больных (62,5 %) причиной одинокого проживания была смерть близких, у 1/3 (29,2 %) – отделе- ние взрослых детей от родителей в неполных семьях с отношениями сотрудничества, гиперопеки и симбиотическими, у 8,3 % – развод из-за злоупотребления супругами алкоголем и неустойчивых черт характера. У всех пациентов развилось состояние одиночества. Продолжительность психогенного депрессивного симпто-мокомплекса различной степени выраженности с начала одиночества до манифеста основного заболевания варьировала от нескольких недель до 3 лет. Манифестные проявления носили атипичный характер: реактивная окраска психоза, усиление коморбидной соматоневро-логической патологии и выраженность депрессивной симптоматики у больных шизофренией. Поэтому в половине случаев отмечались диагностические ошибки. Так, больным с эндогенным аффективным психозом был выставлен диагноз реактивной депрессии (7 из 17) и сосудистого психоза (3 из 17), 2 больным шизофренией – атипичного циркулярного психоза. В дальнейшем отрицательное влияние состояния одиночества на всех больных сказывалось в провокации рецидива заболевания, учащении и удлинении приступов.
Во вторую подгруппу вошли 13 пациентов – в основном больные эндогенным аффективным психозом – более 3/4 (76,9 %), одна из которых не испытывала состояния одиночества, в 5 раз реже отмечались больные экзогенноорганическими заболеваниями (15,4 %) и в 10 раз – шизофренией (7,7 %). Более чем у половины пациентов наблюдались тревожнодисфорические депрессии (53,8 %), у остальных с одинаковой частотой встречались бредовые и ипохондрические (по 23,1 %). Причинами одинокого проживания в половине случаев (46,2 %) был распад семьи из-за психического заболевания, в 1/3 (30,8 %) – развод в связи с пьянством супругов, их психопатическими особенностями и недооценкой болезненных проявлений у пациентов, в 1/4 (23,1 %) – смерть супруга. Развившееся состояние одиночества способствовало более частым рецидивам болезни и увеличению продолжительности приступов. Кроме того, оно оказало влияние на характер течения и клиническую картину заболеваний. У больных биполярным аффективным расстройством с преобладанием маниакальных фаз возникали преимущественно депрессивные. У пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством изменилась клиническая картина фаз – вместо тоскливых депрессий с тревожным компонентом появились тревожно-дисфорические, ипохондрические и бредовые. У больного циркуляторной шизофренией усилился параноидный акцент в приступе, в ремиссии нарастала дефицитарная симптоматика, реккурентное течение трансформировалось в шубообразное. У пациентов с экзогенно-органическими заболеваниями к тре- вожно-дисфорической симптоматике присоединился астенический компонент.
На втором этапе установлено, что в основной группе удельный вес госпитализированных больных был выше (94,6 и 77,4 % соответственно, р<0,05), они чаще стационировались (средняя частота 4,6±0,17 против 2,4 ±0,14 раза в контрольной группе, р<0,05), пребывание в больнице у них было более продолжительным (8,4±0,11 в среднем против 4,3±0,13 месяца, р<0,05). Доля пациентов, совершивших суицидальные попытки, среди одиноких была больше (32,4 и 12,9 % р<0,05).
Анализ социально-бытовых и социальнопсихологических данных в группах показал следующее. При сравнении образовательного уровня были выявлены сходные тенденции: около половины больных было со средним (48,6 и 45,2 %), 1/3 – с низким (32,4 и 32,3 %), 1/5 – с высоким (18,9 и 22,6 %). В обеих группах преобладали удовлетворительные жилищные условия (51,4 и 51,6 %). Между тем у одиноких больных немного реже (21,6 и 29,0 %) наблюдались хорошие и несколько чаще (27,0 и 19,4 %) – плохие условия (различия недостоверны). Сопоставление больных по уровню материального обеспечения (табл. 1) определило, что среди одиноких был выше удельный вес пациентов с низким материальным достатком (р<0,05) и ниже – со средним (р<0,05).
Таблица 1
Распределение больных по материальному обеспечению и семейному статусу
|
Материальное положение |
Семейный статус |
Всего |
||||
|
одинокие |
семейные |
|||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
Высокое |
7 |
18,9 |
6 |
19,4 |
13 |
19,1 |
|
Среднее |
10 |
27 |
16 |
51,6 |
26 |
38,2 |
|
Низкое |
20 |
54,1 |
9 |
29 |
29 |
42,7 |
|
Итого |
37 |
100 |
31 |
100 |
68 |
100 |
Больные с высоким материальным положением отмечались в обеих группах реже и примерно с одинаковой частотой (р>0,05). Кроме того, больные, живущие в семье, были лучше обеспечены за счёт помощи близких. В группах превалировали больные с инвалидностью II группы (83,8 и 87,1 %), значительно реже встречались пациенты с инвалидностью I группы (5,4 и 6,5 %), остальные (10,8 и 6,5 %) были пенсионерами по возрасту. В трудовой деятельности больные обеих групп не участвовали.
Состояние одиночества в основной группе встречалось в 3 раза чаще, чем в контрольной (97,3 и 32,3 %, р<0,001). Важную роль в социальной адаптации больных и осуществлении лечебно-реабилитационных мероприятий играют члены социальной сети, которые более других оказывают им социальную поддержку. Их мы назвали опекунами, включая как формальных опекунов (назначенных опекунским сове- том недееспособным больным), так и людей, не наделенных официальными полномочиями, но в наибольшей степени заботящихся о пациентах (неформальные опекуны). Все больные имели неформальных опекунов. Сравнение взаимоотношений опекунов с больными (табл. 2) выявило, что в основной группе реже были зарегистрированы доброжелательные (р<0,05) отношения, чаще имели место конфликтные (р<0,01) отношения.
Таблица 2 Распределение больных по характеру взаимоотношений с опекунами и семейному статусу
|
Характер взаимоотношений |
Семейный статус |
Всего |
||||
|
одинокие |
семейные |
|||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
Доброжелательные |
11 |
29,7 |
17 |
54,8 |
28 |
41,2 |
|
Формальные |
10 |
27 |
10 |
32,3 |
20 |
29,4 |
|
Конфликтные |
16 |
43,3 |
4 |
12,9 |
20 |
29,4 |
|
Итого |
37 |
100 |
31 |
100 |
68 |
100 |
У семейных больных также наметилась тенденция к более высокому удельному весу формальных отношений (р>0,05). Другими важными членами социальной сети пожилых психически больных, особенно одиноких, взаимоотношения с которыми оказывают влияние на состояние пациентов, являются соседи. Установлено, что в основной группе была меньше доля больных с доброжелательными (45,9 и 74,2 %, р<0,01) и большее число больных с формальными (40,6 и 16,1 %, р<0,05) отношениями. Практически с одинаковой частотой и реже других в обеих группах встречались конфликтные отношения (13,5 и 9,7 %, р>0,05).
Анализ соматического состояния (табл. 3) показал, что оно было лучше у больных, проживающих в семье: выше удельный вес пациентов с состояниями компенсации и субкомпенсации (р<0,05) и ниже – с состоянием умеренно-выраженной декомпенсации (р<0,05), одинаковый – с выраженной и тяжелой декомпенсацией.
Таблица 3
Распределение больных по соматическому состоянию и семейному статусу
|
Соматическое состояние |
Семейный статус |
Всего |
||||
|
одинокие |
семейные |
|||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|
|
Компенсация и субкомпенсация |
10 |
27 |
17 |
54,8 |
27 |
39,7 |
|
Умеренно выраженная декомпенсация |
24 |
64,9 |
12 |
38,7 |
36 |
52,9 |
|
Выраженная и тяжелая декомпенсация |
3 |
8,1 |
2 |
6,5 |
5 |
7,4 |
|
Итого |
37 |
100 |
31 |
100 |
68 |
100 |
Значительные нарушения взаимоотношений с опекунами и соседями ухудшали социальную поддержку одиноких больных, дефицит которой вместе с распространенностью выраженной соматической патологией способствовал более низкому уровню комплайенса в основной группе. Одинокие пациенты нерегулярно посещали врачей и принимали поддерживающее лечение. При ухудшении состояния они, как правило, поздно или вообще не обращались к участковому психиатру. В поле зрения врача больные попадали чаще всего в состоянии глубокой депрессии, главным образом благодаря сведениям, полученным от опекунов или соседей. В период госпитализации недостаточная социальная поддержка, усиливая чувство одиночества, затрудняла лечение, и особенно реабилитацию больных, в связи с этим увеличивались сроки пребывания в больнице. В части случаев продолжительности стационирования способствовала перспектива возвращения в неблагоприятную социально-бытовую и социальнопсихологическую обстановку. Эти обстоятельства порою содействовали появлению или укреплению тенденции к развитию госпитализма.
В противоположность одиноким семейные больные, несмотря на схожую клиническую картину, госпитализировались реже из-за контроля опекунов-родственников, с которыми складывались в целом сравнительно благоприятные отношения. В основном по их инициативе пациенты при рецидиве заболевания чаще сразу обращались к врачу диспансера, в связи с чем начинавшееся обострение купировалось амбулаторно, или больные своевременно ста-ционировались. Помимо того, пациенты контрольной группы более регулярно наблюдались участковыми психиатром и терапевтом, получая более эффективную поддерживающую терапию по сравнению с одинокими больными. В больнице вследствие поддержки опекунов и других членов семьи лечение и реабилитация их проходили более продуктивно, что способствовало сокращению длительности стациониро-вания.
Таким образом, можно выделить два механизма (прямой и опосредованный) отрицательного влияния одинокого проживания на возникновение и течение депрессивных расстройств у психически больных в позднем возрасте. Первый действует через состояние одиночества, которое проявляется в двух вариантах: триггерного фактора начала заболевания и дополнительного психогенного момента, способствующего рецидиву заболевания, учащению и удлинению приступов. Второй включает медико-социальные факторы, сопряженные с одиноким проживанием пациентов: низкий уровень материального обеспечения, частые нарушения взаимоотношений с опекунами и соседями, недостаточная социальная поддержка, распространенность выраженной соматической патологии, низкий уровень комплайенса.
Полученные данные необходимо использовать при оказании медико-социальной помощи данному контингенту больных.