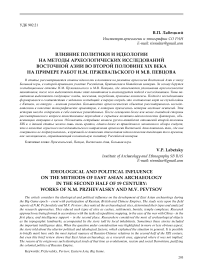Влияние политики и идеологии на методы археологических исследований Восточной Азии во второй половине XIX века на примере работ Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова
Автор: Лабецкий В.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XXI, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние идеологии и политики на развитие археологии Восточной Азии в эпоху Большой игры, в которой принимали участие Российская, Британская и Китайская империи. За основу берутся экспедиционные отчеты Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова, где отмечаются упоминания археологических памятников, после чего выделяются типы этих памятников и анализируется подход к исследованиям. Типы памятников выделяются следующие: клады, поселения, погребения, храмовые комплексы. Подход к исследованиям формировался в соответствии с задачами экспедиций: в первую очередь это составление карт на случай войны с Китаем, во вторую - военная разведка. Большинство археологических объектов рассматривалось исследователями в качестве топографических ориентиров, к которым прилагались истории местных жителей. Эти истории иногда содержали в себе важные разведданные. После освещения более или менее очевидной стороны рассматриваемого вопроса повествование переходит к скрытым политико-идеологическим факторам, объясняющим ситуацию в целом. Обозначить острейшие нюансы русско-китайских отношений второй половины XIX в. в данной статье можно лишь очень кратко, однако даже из приведенного лаконичного обзора следует, что в качестве серьезного исследовательского направления археология Восточной Азии появилась там, где она совершенно не подразумевалась, и причиной ее появления стала такая идеологическая тенденция того времени, как эволюционизм, оправдывающий колониальную политику Российской империи.
Пржевальский, певцов, восточная азия, большая игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14522235
IDR: 14522235 | УДК: 902.21
Текст научной статьи Влияние политики и идеологии на методы археологических исследований Восточной Азии во второй половине XIX века на примере работ Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова
Свои основные археологические открытия Николай Михайлович Пржевальский и Михаил Васильевич Певцов совершили на территории китайских провинций Внутренняя Монголия, Ганьсу и Синьцзян. То, что можно обозначить в трудах путешественников в качестве результатов археологической разведки, начиналось как разведка военная. Политика и идеология играли в данном случае ключевую роль, создавая основу мотивации исследований. Таким образом, разобравшись в мотивации экспедиций Н.М. Пржевальского и его последователя М.В. Певцова, можно понять причины внимания к определенным типам археологических источников, а также раскрыть основные методологические принципы их изучения и фиксации.
Следует отметить, что М.В. Певцов – фигура соразмерная Н.М. Пржевальскому по статусу, индивидуальности и внутренней силе, однако значительно менее известная. В методологическом плане Певцов продолжает традицию, заложенную Пржевальским, поскольку ему пришлось в буквальном смысле заменить безвременно ушедшего Николая Михайловича. Именно поэтому корректно говорить о нем как о последователе, однако Певцов не теряется в тени своего великого предшественника, а, напротив, резко контрастирует с ним, по крайней мере в личностном плане.
Н.М. Пржевальский задал определенный тон в археологических исследованиях региона. За время четырех азиатских экспедиций Пржевальского были открыты и описаны такие археологические объекты, как древние клады [Пржевальский, 1876, с. 116, 133], развалины городов возрастом от бронзового века до средневековья [Там же, с. 74, 133, 147; Пржевальский, 1888, с. 218, 353, 356, 365–367, 471], храмовый комплекс Цяньфодун (Пещера тысячи будд) [Пржевальский, 1883, с. 100–102], курганы и погребения различных типов [Пржевальский, 1876, с. 139; 1888, с. 121, 367, 382, 410].
Среди археологических находок М.В. Певцова можно отметить сторожевые глиняные башни, на которых в древности зажигали сигнальные огни [Певцов, 1895, с. 63–64], развалины древних глиняных построек и городов [Там же, с. 106, 336–337], огромные скопления керамики [Там же, с. 106–107]. Его работы содержат также некоторые дополнения к легендам, приведенным Н.М. Пржевальским по поводу развалин близ оазисов Хотан [Там же, с. 120–121] и Черчен [Там же, с. 255], лично осмотренных М.В. Певцовым.
Стиль фиксации археологических объектов сформировался у Н.М. Пржевальского в ходе написания отчета о Монгольской экспедиции и не только повторялся в последующих текстах, но также 294
стал хорошим примером для его учеников. В целом он был принят на вооружение и в отчетах М.В. Певцова. Этот стиль вмещал в себя весьма сжатое, без особых подробностей, описание объекта древности, к которому прилагались рассказы местных жителей, зачастую выражающие их политические предпочтения в мифологических терминах. Иногда описание археологического объекта ограничивалось только легендой или рассказами информаторов.
Почему разведчики-картографы расспрашивали аборигенов о древностях, не проявляя к этим древностям глубокого археологического интереса? Дело в том, что развалины древних городов и другие заметные археологические объекты рассматривались прежде всего в качестве географических ориентиров, со специальными названиями, известными местным жителям [Валиханов, 1984, с. 190]. Такой интерес подразумевает лаконичность описания подобных местных достопримечательностей. Легенды о них обычно представляли некоторый интерес для разведчика помимо топографического, поскольку легенды эти служили маркером политического влияния в регионе.
Вышеуказанные причины интереса к археологии – это то, что лежит на поверхности, но основной причиной были ресурсы. Руководство экспедиций в Петербурге мыслило предельно прагматично, как, впрочем, любые военные и политики. Для того чтобы стали понятны мотивы этих людей, следует выделить несколько общих этапов русско-китайских отношений во второй половине XIX в. В 1856 г. в Китае началось дунганское восстание – одно из самых грозных и кровопролитных восстаний в новой истории страны. В 1871 г. русские «помогли» китайцам отвоевать у восставших Илийский край, забрав его на время себе. За год до этого Н.М. Пржевальский отправился в Монгольскую экспедицию, которая вполне сравнима с военной разведкой, поскольку большая часть ее маршрута проходила по землям, разоренным дунганами. Скорее всего, разведданные Н.М. Пржевальского помогли принять решение о вооруженном вмешательстве в китайские дела. В 1881 г. в Поднебесной оправились от исламистского террора и потребовали Илийский край назад, даже пригрозив России войной. До серьезных столкновений дело не дошло, однако отношения между двумя империями испортились. В секретном донесении Генштабу от 1887 г. полковник Л.Ф. Костенко с горечью вспоминает старые обиды и подводит итог своим невеселым мыслям следующим образом: «Как ни тяжело нашему государству расширять свои владения и присоединять новые земли, тем не менее со стороны Чжунгарии и Кашгарии нам придется, рано или поздно, осуществить эту тяжелую, но вместе с тем гуманную и славную миссию» [Костенко, 1887, с. 311].
Логично, что после захвата «Русского Туркестана» Россия заглядывалась на Китайский, поэтому Синьцзян, Тибет и Монголия изучались с прагматической точки зрения, как потенциальные колонии. Впрочем, насильственный захват этих земель, вопреки мнению Костенко и других сторонников наступательной политики, так и не состоялся, поскольку он был бы слишком радикальным и затратным актом. Альтернативная политическая программа по отношению к землям Восточной Азии сводилась к усилению русского влияния в регионе и развитию торговых, а также культурных взаимодействий . Тем не менее война не исключалась, поэтому кроме составления карт и топосъемки на случай военных действий русские интересовались богатствами Западного Китая – начиная с древних кладов, «позолоченных идолов», полезных ископаемых и пресной воды и заканчивая сельским хозяйством, промыслами и торговлей. Жители этих земель воспринимались как потенциальные сотрудники или даже будущие подданные (т.е. «людские ресурсы»), поэтому важно было узнать все их предпочтения – от культурных и религиозных до экономических и политических.
На идеологическом уровне подобные колониальные аппетиты оправдывались тем, что всем будет только лучше: азиаты получат новую, цивилизованную жизнь, а Россия в обмен на тяжелейший неблагодарный труд по «окультуриванию» аборигенов – ресурсы, рынок сбыта, новые производства, а также существенные геополитические преимущества [Семенов, 1900, с. 209; Верещагин, 1883, с. 51–52]. Все это подкреплялось такими новейшими идеологическими тенденциями второй половины XIX в., как эволюционизм, расизм и так называемый социальный дарвинизм [Клейн, 2011, с. 316–317]. Необходимо подчеркнуть, что здесь имеется в виду исключительно политико-идеологическая сторона сложных научных гипотез, часть из которых не прошла проверку временем и была опровергнута. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в их основе лежит идея о том, что по тем или иным причинам – историческим, политическим или биологическим – одна группа людей сильнее и развитее, чем другая. Сильные и развитые люди имеют больше прав на ресурсы, чем те, кто не может этими ресурсами эффективно распорядиться. Военная экспансия с целью поддержания и развития более прогрессивной экономики оправдывается помощью в развитии, оказываемой тем, у кого отбираются земли и сырье.
Фактически речь идет о навязывании ценностей «более развитого общества», характерном для политики колониализма.
Таким сложным и противоречивым образом в калейдоскопе исторической динамики появляются неожиданные исследовательские направления, среди которых можно выделить археологическое изучение пустыни Такла-Макан, бассейна р. Хуанхэ и монгольских степей.
Археологические изыскания Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова носили обзорный, экстенсивный характер, преследуя скорее цели военнополитической разведки, чем какие-либо другие, однако вклад этих путешественников в археологию имел огромное значение, поскольку они обозначили новые области и направления исследований, а также общую политико-идеологическую составляющую, соединяющую древнюю историю с современной жизнью.
Список литературы Влияние политики и идеологии на методы археологических исследований Восточной Азии во второй половине XIX века на примере работ Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова
- Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: В 5 т. -Алма-Ата: Гл. ред. Казахской сов. энциклопедии, 1984. -Т. 1. -432 с.
- Верещагин В.В. Очерки, наброски, воспоминания. -СПб.: Тип. м-ва путей сообщ. А. Бенке, 1883. -155 с.
- Клейн Л. С. История археологической мысли: В 2 т. -СПб.: Издат. дом СПбГУ, 2011. -688 с.
- Костенко Л.Ф. Чжунгария. Военно-статистический очерк Генерального штаба полковника Л. Ф. Костенко//Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. -СПб.: Воен. тип. в здании Главного штаба, 1887. -Вып. 28. -С. 1-311.
- Певцов М.В. Очерк путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая. -Омск, 1883. -354 с. -(Зап. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва).
- Певцов М.В. Путешествие по Восточному Туркестану, Кун-Луню, северной окраине Тибетского нагорья и Чжунгарии в 1889 и 1890 годах: Отчет бывшего начальника Тибетской экспедиции М.В. Певцова. -СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1895. -423 с.
- Певцов М.В. Путешествия по Китаю и Монголии. -М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1951. -284 с.
- Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии Н. Пржевальского, подполковника Генерального штаба, действительного члена ИРГО. -СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1876. -Т. 1. -383 с.
- Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии Н.М. Пржевальского. -СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1883. -476 с.
- Пржевальский Н.М. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. Четвертое путешествие в Центральной Азии Н.М. Пржевальского. -СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888. -536 c.
- Пржевальский Н.М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор. -М.: ОГИЗ, 1947. -157 с.
- Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества. 1845-1895. -СПб.: Тип. В. Безобразова, 1896. -Ч. 2. -980 с.
- Семенов П.П. Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России. -СПб.: Тип. АО «Брокгауз-Ефрон», 1900. -287 с.