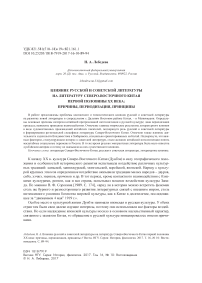Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-Восточного Китая первой половины ХХ века: причины, периодизация, принципы
Автор: Лебедева Наталья Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Лингвистика и литература Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены проблемы контактного и типологического влияния русской и советской литературы на развитие новой литературы в сопредельном с Дальним Востоком районе Китая, - в Маньчжурии. Определены основные причины интереса китайской прогрессивной интеллигенции к русской культуре; дана периодизация процесса; выявлены принципы взаимодействия. Отмечены главные творческие результаты литературного влияния в виде художественных произведений китайских писателей, подчеркнута роль русской и советской литературы в формировании региональной специфики литературы Северо-Восточного Китая. Отмечено также влияние деятельности издательств Владивостока и Хабаровска, специально ориентированных на Китай. Подчеркнуто, что важным фактором, стимулирующим интерес к советской литературе, стало желание китайской интеллигенции понять масштабные социальные перемены в России. В то же время русская эмигрантская литература была мало известна дунбэйским авторам и потому не оказывала на них существенного влияния.
Литература северо-восточного китая, русская и советская литература, литературное влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/147219721
IDR: 147219721 | УДК: 821.581(510-18)6199: | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-10-89-94
Текст научной статьи Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-Восточного Китая первой половины ХХ века: причины, периодизация, принципы
К началу ХХ в. культура Северо-Восточного Китая (Дунбэя) в силу географического положения и особенностей исторического развития испытывала воздействие различных культурных традиций: ханьской, маньчжурской, монгольской, корейской, японской. Наряду с культурой крупных этносов определенное воздействие оказывали традиции малых народов – дауров, сибо, хэчжэ, эвенков, орочонов и др. В тот период, кроме контактного взаимодействия с близкими культурами, регион, как и вся страна, испытывал мощное воздействие культуры Запада. По мнению В. Ф. Сорокина [1989. С. 174], «вряд ли в истории можно встретить феномен столь же бурного и разностороннего развития литературных связей с внешним миром, столь интенсивного усвоения богатства мировой культуры, как в Китае в десятилетие, последовавшее за “движением 4 мая” 1919 г.».
Особое место в культурной жизни Дунбэя занимали японская и русская культуры. У обеих стран там были свои далеко идущие интересы, поэтому они использовали все факторы воздействия. Но если насаждение японской культуры носило в основном насильственный характер, связанное с захватом Китая, то обращение к русской культуре инициировалось иными причинами.
Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-Восточного Китая первой половины XX века: причины, периодизация, принципы // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 10: Востоковедение. С. 89–94.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 10: Востоковедение © Н. А. Лебедева, 2017
Одним из заметных факторов стало строительство КВЖД и появление в Маньчжурии большой русской колонии. Другая причина российского влияния в Дунбэе – революция в России и последовавшие перемены в социальном устройстве. Это вызвало большой интерес у левой китайской интеллигенции. Русская литература критического реализма помогла новому поколению китайских литераторов ответить на самые острые вопросы творчества.
Что касается литературы русской диаспоры, то едва ли можно говорить о ее значительном влиянии на формирование литературы Северо-Восточного Китая в первой половине ХХ в. Внимание китайской молодежи привлекал стиль жизни русских, который становился образцом для подражания. Молодые китайские литераторы, не владевшие русским языком, не имели возможности знакомиться с произведениями писателей-эмигрантов из Харбина. Переводы на китайский язык прозы А. Несмелова, В. Логинова, К. Сабурова, М. Шмейссера, А. Хейдока, Б. Юльского, Вс. Иванова появились только в конце ХХ в.
Кроме интереса передовой части китайского общества к русской классике, а затем и к результатам революционных преобразований в России, существовала особая политика коммунистов в обеих странах, направленная на распространение в Китае марксистской эстетики, партийных документов РКП(б) по вопросам культуры, популяризации советской литературы и искусства. Это, несомненно, третья причина влияния советской литературы на китайскую.
На начальном этапе основным критерием отбора материалов для перевода было наличие соответствующих текстов на английском или японском языках. С 1930 г. важную роль в этом процессе играли Лига левых писателей Китая, Лига левых художников, Лига левых театральных деятелей.
Немало произведений советской художественной литературы были переведены в России и распространялись в Маньчжурии. Во Владивостоке существовало бюро распространения китайской литературы, в Хабаровске – издательство «Дальгиз» со специальным китайским сектором, в который входили квалифицированные переводчики и редакторы. Многие переводы советской литературы на китайский язык впервые были опубликованы именно там. Например, перевод «Железного потока» А. Серафимовича был опубликован в Хабаровске в 1932 г. (поэтому «возможно, что бойцы китайской Красной армии носили в вещевых мешках изданные в Хабаровске или перепечатанные с них экземпляры повести Серафимовича» [Шпринцин, 1973. С. 255]). Этот роман, как и другие произведения советской литературы («Мать» М. Горького, «Разгром» А. Фадеева, стихи В. Маяковского), распространялся в Чанчуне, Фэнтяне, Харбине, Цицикаре благодаря деятельности местных издательств при книжных магазинах. Их работой руководили ветераны «движения 4 мая», принявшие сторону коммунистов [Дун Синцюань, 1989. С. 35]. «Разгром» А. Фадеева, переведенный Лу Синем с японского издания в 1930–31 гг., появился в шести номерах журнала «Всходы» ( 萌芽 «Мэнъя»), а в 1934 г. был опубликован издательством «Дальгиз» в Хабаровске.
Как отмечал А. Н. Веселовский [1939. С. 18], никакое заимствование невозможно без наличия у воспринимающей стороны «встречного движения мысли», то есть тенденции, аналогичной воспринимаемой. Типологическая обусловленность отбора авторов и произведений для перевода особенно ярко проявляется на этапах истории национальной литературы с неустойчивыми литературными нормами. Как правило, это связано с переходом к новой стилевой формации и с кризисом господствовавшей ранее поэтики. Поиски стимулов в инонациональном литературном развитии становятся особенно актуальными и активизируют переводческую деятельность [Дюришин, 1979. С. 129].
Советская литература была для демократической китайской общественности не только важным каналом информации о русской революции, но и мощным генератором новых творческих идей и художественных приемов. «Книги советских писателей, переведенные на китайский язык, способствовали созданию в духовной жизни Китая атмосферы, благоприятной для формирования и развития революционной китайской литературы» [Петров, 1977. С. 247–248].
Влияние русской и советской литературы на литературу Дунбэя носило как типологический, так и контактный характер. Первое обусловливалось сходными условиями историческо- го развития России и Китая, второе – многочисленными формами культурных контактов, происходивших из региональной специфики Северо-Востока.
Несомненно, восприятие влияния – процесс творческий, ведущий к созданию новых оригинальных произведений. Оно не свидетельствует о недостатке воображения у автора, но говорит о потенциальных возможностях писателя, выражает его восприимчивость к многообразным творческим импульсам [Дюришин, 1979. С. 78].
В рамках рассматриваемого литературного взаимодействия можно выделить три периода, каждый из которых определяется конкретными потребностями развития Дунбэя и характеризуется интересом к произведениям соответствующей проблематики.
Первый период (1910–1920-е гг.) – распространение на Северо-Востоке идей движения за новую культуру и «движения 4 мая» 1919 г. Китай в первую очередь интересовало содержание, идейная направленность русской литературы. К ней обращали вопросы, поставленные литературной революцией в Китае (отношение к личности, творческому методу, жанру, тематике и героям произведений). Читатели знакомились с произведениями Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, Л. Андреева, В. Гаршина, переводы которых на китайский язык пришли в регион из центра страны. Как правило, первыми были не переводы с русского оригинала, а пересказы, выполненные с языков-посредников: английского, немецкого, японского и французского. Часто отбор переводимых произведений определялся именно наличием переводов на указанные языки. Включение творчества каждого русского писателя в китайскую литературу проходило через стадии перевода, критического истолкования, творческого освоения. Важную роль сыграли местные периодические издания и литературные общества: «Новая культура» ( 新文 化 «Синь вэньхуа») в Даляне, «Утренняя звезда» ( 期明 «Цимин») и «Ледяные цветы» ( 冰花 «Бинхуа») в Шэньяне и др.
Второй период (1930-е – начало 1940-х гг.) – антияпонское сопротивление. Патриотическая интеллигенция обратилась к проблеме национально-освободительной войны, поэтому переводились и распространялись произведения А. Фадеева, А. Серафимовича, Вс. Иванова, Б. Лавренева о гражданской войне; особый отклик вызывали произведения о боях с японцами на Дальнем Востоке. Позднее появились произведения о Великой Отечественной войне: пьесы Л. Леонова, А. Корнейчука, К. Симонова, повесть В. Василевской «Радуга» и др. Под влиянием творческих импульсов «Разгрома» А. Фадеева и «Железного потока» А. Серафимовича Сяо Цзюнь (萧军 1907–1988 ) создал роман «Деревня в августе» ( 八月的乡村, 1935), посвященный антияпонскому сопротивлению в Дунбэе. Лу Синь, помогавший в редактировании и издании романа, в предисловии к нему писал: «Я прочитал несколько книг об оккупации трех провинций на востоке. Среди них – «Деревня в августе», и это хорошая книга. Хотя она похожа на серию новелл, и способом описания характеров тоже не может сравниться с «Разгромом» Фадеева, но все-таки торжественность и строгость, напряженность повествования, кровь писательского сердца и утраченные небо и земля, вплоть до травинок и насекомых, народные бедствия – все это сливается в целостное, яркое полотно, встающее перед глазами читателей и являющее ему одновременно отдельный уголок Китая и всю страну, сегодняшний день и будущее, дорогу смерти и дорогу жизни» (Цит. по: [Сяо Цзюнь, 1985. С. 2]).
Третий период (1945–1949 гг.) – установление народной власти, восстановление разрушенного войной хозяйства и проведение аграрной реформы. В конце 1940-х гг. писатели Северо-Восточного Китая оказались перед проблемой художественного осмысления новых явлений в жизни общества. Помощником в освоении новых тем стала советская литература, а в области культурного строительства, руководства художественным творчеством активно использовался опыт СССР. Литература Дунбэя развивалась под влиянием идейно-политических факторов, сближавших ее с советской литературой. В итоге возникло новое соотношение контактно-генетических связей и типологических схождений. Последний фактор стал настолько интенсивным, что позволил поставить вопрос о возникновении единого художественного метода.
«Поднятая целина» М. Шолохова стала примером для писателя Чжоу Либо ( 周立波 1908– 1979), посвятившего роман «Ураган» ( 暴风骤雨 , 1948) [Чжоу Либо, 1981] проведению аграрной реформы на Северо-Востоке. В 1936 г. Чжоу Либо перевел с английского первую часть
«Поднятой целины», опубликованную в 1939 г. в Яньани. Он писал: «Именно советскую литературу мы избрали нашим учителем. Наши писатели нашли в ней самый прогрессивный творческий метод, который учит глубокой идейности, тесной связи с народом, правдивому изображению жизни и борьбы трудящихся» (Цит. по: [Федоренко, 1953. С. 182]).
Кроме полного перевода «Поднятой целины», выполненного Чжоу Либо [1981], существовало сокращенное изложение романа, подготовленное Мэн Фаном и в 1948 г. опубликованное харбинским издательством «Гуанхуа шудянь». Брошюра небольшого формата вручалась агитаторам, направлявшимся в деревни проводить реформу, как практическое руководство к действию. В качестве предисловия в книге имелась статья «Почему мы рекомендуем это произведение». В ней говорилось о том, что опыт коллективизации в СССР, описанный в «Поднятой целине», полезен при проведении аграрной реформы в освобожденных районах Северо-Востока Китая.
Современное китайское литературоведение, многое переосмыслившее в последние десятилетия, не отрицает влияния М. Шолохова. «Чжоу Либо при создании романа испытывал на себе воздействие Шолохова в плане осознания собственного творческого призвания. “Ураган” успешно воспринял творческий метод социалистического реализма “Поднятой целины” и две основные сюжетообразующие линии развития романа» [Дунбэй сяньдай вэньсюэ…, 1996. С. 160].
Повесть Цао Мин ( 草明 1913–2002) «Движущая сила» ( 原动力 , 1948), посвященная восстановлению разрушенной японцами ГЭС на оз. Цзиньбоху недалеко от г. Муданьцзян [Цао Мин, 1949], создана под воздействием романа Ф. Гладкова «Цемент» (1924), главной темой которого является формирование новых характеров в ходе восстановления цементного завода. Л. З. Эй-длин полагал, что Цао Мин была хорошо знакома с этим очень популярным в Китае произведением. Роман был переведен на китайский язык Дун Шаомином и Цай Юншэном и опубликован в 1929 г. Китайские критики той эпохи считали «Цемент» творческой победой молодой советской прозы. Лу Синь называл «Цемент» вечным памятником новой русской литературы.
Подводя итоги, отметим, что граничащий с Россией и Кореей, расположенный поблизости от Японии и Монголии Северо-Восточный Китай являлся маргинальной (переходной) зоной с происходящей в ней рубежной коммуникативностью, обладающей особой энергетикой, которая распространялась и на сферу художественной культуры. Множество творческих импульсов, излучаемых культурами сопредельных стран, способствовали созданию в Дунбэе своеобразных художественных произведений. Воздействие русской и советской литературы на формирование и развитие прозы Северо-Восточного Китая носило контактный и типологический характер. Контактное влияние было усилено русской диаспорой в Маньчжурии и идеологическим воздействием с территории советского Дальнего Востока, направленным на распространение марксистской эстетики и советской литературы.
Типологическое взаимодействие двух литератур было вызвано тем, что в 1930–40 гг. жизнь поставила перед населением Дунбэя проблемы, уже решенные в СССР. Писатели Северо-Востока обращались к русской и советской литературе как к источнику идей и эстетических ценностей. Их привлекал критический реализм русской классики, а затем и творческий метод советской литературы, воспринимавшийся как самый передовой. Каждый из трех выделенных периодов литературного влияния характеризуется собственным специфическим содержанием и результатами, получившими в истории китайской литературы высокую оценку.
Список литературы Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-Восточного Китая первой половины ХХ века: причины, периодизация, принципы
- Веселовский А. Н. Избр. статьи. Л.: Худож. лит., 1939. 572 с.
- Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М.: Прогресс, 1979. 319 с.
- Петров В. В. Советская литература в Китае в 1928-1930 гг. // Литература стран зарубежного Востока и советская литература. М.: Наука, 1977. С. 213-250.
- Сорокин В. Ф. Встречное движение // Проблемы Дальнего Востока. 1989. № 6. С. 174-178.
- Федоренко Н. Т. Очерки современной китайской литературы. М.: Худож. лит., 1953. 255 с.
- Шпринцин А. Г. О литературе на китайском языке, изданной в Советском Союзе (20- 30-е годы) // Изучение китайской литературы в СССР. М.: Наука, 1973. С. 242-266.
- Дун Синцюань. Усы синь вэньхуа юньдун юй дунбэй вэньсюэ // Дунбэй сяньдай вэньсюэ яньцзю [董兴泉。五四新文化运动与东北文学 // 东北现代文学研究]. Движение 4 мая и литература Северо-Восточного Китая // Изучение литературы Северо-Восточного Китая. 1989. № 1. С. 31-36. (на кит. яз.)
- Дунбэй сяньдай вэньсюэ шилунь [东北现代文学史论 / 张毓茂主编]. История современной литературы Северо-Востока / Гл. ред. Чжан Юймао. Шэньян: Шэньян чубаньшэ, 1996. Т. 5. 361 с. (на кит. яз.)
- Сяо Цзюнь. Баюэдэ сянцунь [萧军。八月的乡村]. Деревня в августе. Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, 1985. 216 с. (на кит. яз.)
- Чжоу Либо вэньцзи [周立波文集]. Собр. соч. Чжоу Либо. Шанхай: Шанхай вэньи чубаньшэ, 1981. Т. 1. 514 с. (на кит. яз.)
- Цао Мин. Юаньдунли [草明。原动力]. Движущая сила. Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ, 1949. 177 с. (на кит. яз.)