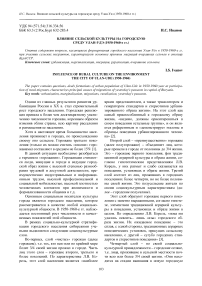Влияние сельской культуры на городскую среду Улан-Удэ (1950-1960-е гг.)
Автор: Иванов Игорь Сергеевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит вопросы, касающиеся формирования городского населения Улан-Удэ в 1950-1960-е гг. при участии сельских мигрантов, характеризует основные причины миграций вчерашних сельчан в столицу БурАССР.
Урбанизация, маргинализация, миграции, рурализация, вчерашние сельчане
Короткий адрес: https://sciup.org/148178986
IDR: 148178986 | УДК: 94
Текст научной статьи Влияние сельской культуры на городскую среду Улан-Удэ (1950-1960-е гг.)
Одним из главных результатов развития урбанизации России в XX в. стал стремительный рост городского населения. Городская революция привела к более чем десятикратному увеличению численности горожан, коренным образом изменив облик страны, всю картину расселения и размещения ее населения.
Хотя в настоящее время большинство населения проживает в городах, по происхождению своему оно сельское. Горожане третьего поколения (только их можно считать «вполне» горожанами) составляют в среднем не более 15% [1].
В данной ситуации необходимо разобраться с термином «горожанин». Горожанами считаются люди, живущие в городе и ведущие городской образ жизни с высокой степенью разнообразия трудовой и досуговой деятельности, преимущественно индустриальным и информационным трудом, высокой профессиональной и социальной мобильностью, высокой плотностью человеческих контактов при анонимности и формализованности общения и т.д.
Основным социальным носителем культуры города является городское население, которое рассматривается в качестве особой социальнокультурной общности. В 1950-1960-е гг. наблюдается постоянный рост численности и качественных показателей этой общности.
В рамках социально-культурной стратификации городского населения сибирскими учеными выделяются следующие социокультурные слои.
Во-первых, слой «чистых» горожан (далее горожане), т.е. тех, кто всю или по крайней мере более 3/4 своей жизни прожил в городе. Часть лиц этого слоя – горожане второго, третьего и более поколений. По характеристике Л.В. Ко-рель, этот слой населения является «наиболее ярким представителем, а также транслятором и генератором стандартов и стереотипов урбанизированного образа жизни». На этот слой как самый приспособленный к городскому образу жизни, «видимо, должны ориентироваться в своем поведении остальные группы», и он является референтным и «демонстрирует эталоны и образцы поведения урбанизированного человека» [2].
Второй слой – «преимущественно» горожане (далее полугорожане) – объединяет лиц, которые провели в городе от половины до 3/4 жизни. Это – горожане первого поколения, фон традиционной аграрной культуры и образа жизни, согласно гипотетическим представлениям Л.В. Корель, у них размыт и слабо сказывается на поведении, установках и образе жизни. Третий слой состоит из лиц, проживших в городских поселениях более четверти, но не более половины своей жизни. Это полусельские жители по своим социокультурным характеристикам (далее – городские полуселяне).
Этот слой образуют горожане первого поколения с заметно выраженными, согласно гипотезе, элементами традиционной аграрной культуры в поведении, установках и образе жизни в целом. По определению Л.В. Корель, «пока им удалось освоить... лишь «азы» городского образа жизни. Их ожидаемое поведение – это сплав, с одной стороны, традиционных аграрных поведенческих установок, присущих сельскому населению, с другой – сугубо городских стандартов и стереотипов поведения» [3].
Четвертый слой – по своей социальнокультурной принадлежности – городские селяне, т.е. лица, прожившие в сельской местности почти всю или более 3/4 своей жизни. «Они находятся на стадии вживания в новую городскую среду, перестройки нормативной ценностной структуры личности, образа жизни, т.е. на этапе начальной или незавершенной адаптации к городу и дезадаптации по отношению к селу. В своем поведении... они наиболее далеки от урбанизированного образа жизни и остаются носителями преимущественно аграрной культуры» [4].
Переселение человека в город – классический пример маргинализации. Вчерашний крестьянин не становится автоматически «городским индивидуализированным человеком». Поначалу это лишь формальное превращение в горожанина, источник огромных, хотя и не всегда осознаваемых социальных напряжений. Городской житель часто был по своему сознанию, ментальности полугородским, жил сельскими представлениями, а отчасти и трудом, вне урбанистической культуры.
Горизонтальные и вертикальные перемещения огромных масс людей вели к маргинализации основных классов общества. Массовое перемещение сельских жителей в города не сопровождалось развертыванием социальной инфраструктуры. Потеряв связь с деревенской жизнью, переселенцы не получили возможности полноценно включиться в жизнь городскую.
Возникла типично маргинальная, «промежуточная» «барачная» субкультура. Обломки сельских традиций причудливо переплетались с наспех усвоенными ценностями городской цивилизации.
Ожидания питал несомненный рост промышленной базы, вера в «завтрашний день» обеспечивала и беспримерный энтузиазм, и готовность принять барачное существование, низкую зарплату, тяжкий труд. Барак стал колыбелью нескольких поколений – психологические результаты этого сказываются теперь, когда поколения выросли.
По оценке А.Г. Вишневского, в 1940-1960-е гг. наши города оказались «захваченными вчерашними крестьянами» [5].
С 1951 по 1979 г. ежегодный отток из деревни приближался в среднем к 1,7 млн человек, а доля естественного прироста в увеличении городского населения поднималась весьма незначительно, составив 40% в 1959-1969 гг. и 43% в 1969-1978 гг. Наблюдались и определенные волнообразные колебания миграций «село – город», что отражало как послабления в политике прикрепления работников к колхозам, так и ход разного рода бюрократических экспериментов над безгласным сельским населением, – ответом на сомнительные новации было усиление бегства из деревни. Во второй половине 1950-х гг., по мере «завинчивания гаек», поток сельских мигрантов вновь возрос, что повторилось затем в 1965 г., когда упали закупочные цены на сельхозпродукцию [6]. Типичная модель миграции: «деревня – малый город – большой город», в общем совпадает с положением в несоциалистических странах, прежде всего в странах третьего мира.
Население страны с 1939 по 1984 г. увеличилось в 1,4 раза, а численность городского населения – в 2,9 раза, причем население малых (до 100 тыс. жителей) городов – в 2,2 раза, больших (100-800 тыс.) – в 3,1 раза, крупнейших (свыше 500 тыс.) – в 4,6 раза.
Характеризуя проблему «захвата городов вчерашними крестьянами», следует сказать, что этот процесс явился крупным концентрирующим не только экономический, научнотехнический, интеллектуальный потенциал, но и деформирующим экологическим фактором.
Недостаточная техническая оснащенность сельскохозяйственного производства, невысокий квалификационный уровень сельскохозяйственного труда – одна из главных причин ухода молодежи из села, что приводило к дефициту трудовых ресурсов в сельской местности.
В формировании городского населения существенную роль играла внутриреспубликан-ская миграция, составившая в 1960-е гг. 47% всех прибывших в городские поселения [7]. Наибольшая механическая подвижность населения наблюдалась в Бичурском, Мухоршибир-ском, Джидинском и Хоринском районах, где традиционно преобладало сельскохозяйственное производство и была слабо развита промышленность. В Кабанском, Селенгинском, Заиграев-ском районах наблюдался меньший отток населения. На этих имевших промышленность территориях население в основном перераспределялось за счет перехода из сельского хозяйства в другие отрасли народного хозяйства: промышленность, строительство, транспорт.
Перемещение вчерашних крестьян из села в г. Улан-Удэ было обусловлено его ключевой ролью в экономическом и культурном развитии региона.
Развитию производительных сил региона в 1960-е гг. был придан новый импульс. В г. Улан-Удэ разворачивалось крупномасштабное строительство индустриальных объектов, и пространственная активность мигрантов была направлена на освоение ресурсов новых территорий.
Так, из Кабанского района из выпуска восьмилетних и средних школ 1968 г. выехало не менее 800 человек в техникумы, специальные учебные заведения, вузы, а также призваны в ряды Советской Армии, из Заиграевского района – 500 человек.
После окончания учебных заведений сельская молодежь, как правило, направлялась на работу в промышленность, транспорт, строительные организации и постепенно теряла связь с деревней. Выпускники учебных заведений, которые готовили кадры для работы в сельском хозяйстве, предпочитали устраиваться на работу в городе, а не возвращаться в село. Численность 20-29 – летних сельчан была нестабильна и особенно резко упала в 1960-е гг. Если в 1959 г. 2029 – летних жителей было 67 997 человек, то в 1970 г. – 45 994, или сокращение составило 32%, т. е. практически каждый третий этой возрастной группы покидал деревню.
Из сельской местности, как правило, выбывали квалифицированные труженики. При этом в первую очередь уезжали те, кто имел какую-либо техническую специальность (шофер, механизатор) и мог адаптироваться к индустриальному труду в городе. Им было легче, чем животноводам, устроиться на промышленные предприятия и в строительные организации в городе, что не могло не вызвать нехватки механизаторских кадров в деревне.
Промышленность в городе притягивала регламентированностью труда в условиях пятидневной рабочей недели, более механизированным его характером, возможностями профессионального повышения квалификации.
Переезды жителей из села в город происходили из-за неудовлетворенности сельским трудом, большими социально-экономическими различиями между городом и деревней. На селе хуже, чем в городе, было поставлено медицинское обслуживание. В неравном положении с горожанами находились сельские жители при получении услуг из общественных фондов потребления.
Люди из неперспективных деревень очень часто выезжали не на центральные усадьбы колхозов и совхозов, а на место жительства в город или за пределы республики.
Миграция из села не сопровождалась созданием подлинно городского образа жизни. Многие горожане продолжали репродуцировать элементы сельского образа жизни, этот процесс характеризуется как рурализация и понимается как процесс воздействия сельской традиционной культуры на культуру города как путем миграции сельских жителей, так и иными способами [8]. Этот процесс характерен не только для недалекого прошлого, но для современных условий.
Разумеется, по мере укоренения в городах бывших крестьян, крестьянских детей и внуков происходит их врастание в развивающуюся систему городских связей, маргинальность постепенно изживается. Однако скорость этого процесса неодинакова не только в различных социальных условиях, но и у отдельных индивидуумов.
Таким образом, внутренние миграционные процессы, происходившие в БурАССР, дали мощный толчок для включения вчерашних сельских обывателей в состав городского населения Улан-Удэ. Миграция из села в город приводила к изменениям структуры сельского населения: уменьшалась доля трудоспособных и молодежи.
Переезжая в город, бывшие сельчане стали некоей маргинальной прослойкой, которая находилась еще одной ногой в деревне, а другой – заступила на городскую территорию. Именуется сей процесс маргинальностью неогорожан, их промежуточностью между родным селом и еще чужим городом.