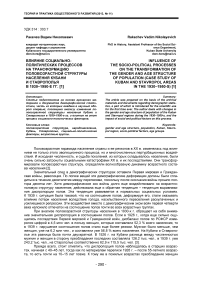Влияние социально-политических процессов на трансформацию половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг.
Автор: Ракачев Вадим Николаевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья подготовлена на основе архивного материала и документов демографической статистики, часть из которых введена в научный оборот впервые; посвящена анализу изменения половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930–1950-е гг. и влияния на этот процесс социально-политических факторов.
Половозрастная структура, народонаселение, кубань, ставрополье, социально-политические факторы, возрастные группы
Короткий адрес: https://sciup.org/14934949
IDR: 14934949 | УДК: 314
Текст научной статьи Влияние социально-политических процессов на трансформацию половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг.
Половозрастная пирамида населения страны и ее регионов в ХХ в. изменялась под влиянием не только этого эволюционного процесса, но и многочисленных пертурбационных воздействий. И исходная численность, и судьба поколений, из которых складывалось население, были очень сильно затронуты социальными катастрофами ХХ в. и их последствиями. Они трансформировали половозрастную структуру, определяли волнообразную динамику возрастного состава населения [2].
Значительный след в демографических структурах оставили Первая мировая и Гражданская войны, революция. По логике вещей эти демографические деформации должны были сгладиться в течение десятилетия между переписями, поскольку после окончания войны прошло полтора десятка лет. Хотя демографическое эхо войны долго еще воздействовало на возрастнополовую структуру населения, действовала еще и обратная тенденция – тенденция выравнивания диспропорции полов. Эта тенденция развивается в нормальных социальных условиях. К 1939 г. ситуация была таковой, что на соотношение полов, деформируя его, стали оказывать влияние потери населения вследствие голода, насильственного переселения раскулаченных и усилившиеся репрессии. Эти воздействия вместе с демографическим эхом войн первой четверти века наложило отпечаток на соотношение полов почти во всех возрастных группах.
При анализе половозрастной структуры населения в 1930-х г. обращает на себя внимание значительная диспропорция в соотношении полов. Если в 1926 г., когда еще сильно ощущались последствия Первой мировой и Гражданской войн, дисбаланс полов по РСФСР измерялся цифрой в 4,5 млн чел. в пользу женщин, которые составляли 52,3 % всего населения, то в 1939 г. нарушение соотношения полов стало еще более резким. Мужчин было меньше, чем женщин, уже на 6,2 млн чел., и составляли уже 56,8 % всего населения. На Кубани и Ставрополье эта разница была почти двухкратной. В 1926 г. на Кубани разница между численностью мужчин и женщин в сторону преобладания последних составляла 126,2 тыс. чел., в 1939 г. уже 243,2 тыс. чел., на Старополье соответственно 62,9 и 115,5 тыс. чел. [3].
Прежде всего, стоит отметить, что диспропорция полов наблюдалась в старших возрастах, начиная с 40–45 лет, тогда как по материалам переписи 1926 г. – после 55-летнего возраста, то есть почти на 10–15 лет позже. К тому же в пожилых возрастах преобладание женщин не выходило за рамки 60 %. В 1939 г. ситуация меняется. По РСФСР в возрастной группе 40–49 лет женщин 55,6 %, 55–59 лет – 58,9 %, 60–69 лет – 61,6 %, 70–79 лет – 65,0 % [4].
На Кубани и Ставрополье также наблюдается половая диспропорция, но при определенных региональных особенностях. Так при сравнении двух территорий на Кубани разница в численности полов заметно сильнее. Так уже в возрастной группе 20–29 лет доля женщин составляла 53,9 %, 30–39 – 53,5 %, 40–49 – 56,1 %, 50–59 – 58,9 %, 60–69 – 62,6 %, 70–79 – 67,2 %. В Ставрополье ситуация несколько более благоприятная, хотя дисбаланс все же присутствует. В группе 20–29 лет женщин 52,6 %, 30–39 – 52,5 %, 40–49 – 53,8 %, 60–69 – 61,5 %, 70–79 – 64,7 % [5]. Таким образом, диспропорция наступила гораздо раньше и выражена была более резко. Все это стало следствием голода, репрессий, коллективизации и раскулачивания.
Особенно наглядно это проявляется на примере тех возрастных групп, которые особенно сильно пострадали в Первую мировую и Гражданскую войны. Это возрастная группа 30–39-летних, потерявшая больше всего мужчин, по переписи 1926 г. имела нарушенное соотношение полов: женщин в ней было 54,4 %. В 1939 г. эта группа по-прежнему страдала нарушенным балансом полов, хотя эта диспропорция должна была сгладиться в условиях мирного времени.
Отличались нарушением соотношения полов в 1939 г. и группы в детских возрастах. Уже в 7-летнем возрасте на Ставрополье среди детей преобладали девочки – 50,4 %. Это те, кто родились в начале 1930-х г., и мальчики, более слабые от природы, имели более высокую смертность. Устойчивый перевес девочек и на Ставрополье и на Кубани начинается в группе 16–19 лет. Однако необходимо отметить, что в детских возрастных группах соотношение полов на Кубани выглядело более благополучно, чем на Ставрополье [6].
В возрастных группах старше 20 лет диспропорция становится уже гораздо заметнее и составляет 3–4 %, причем в интервале от 17 до 30 лет в Ставрополье дисбаланс выражен сильнее, чем на Кубани. Далее, в более старших возрастных группах (30 и старше), разрыв в численности мужского и женского населения достигает уже 5–10 %.
Общая же ситуация такова, что в конце 1930-х гг. Кубань имела более неблагоприятную половую структуру чем Старополье, прежде всего в силу того, что была сильнее затронута событиями революции и Гражданской войны, голодом, репрессиями в ходе раскулачивания и расказачивания.
Национальные территории – Адыгейская, Карачаевская и Черкесская автономные области также имели деформированную половую структуру, однако в отличие от Краснодарского и Орд-жоникидзевского (Ставропольского) краев дисбаланс здесь был не таким резким. Практически равным было соотношение мужчин и женщин в Карачае, чуть заметнее деформирована была возрастная структура в Черкессии и наиболее сильная деформация наблюдалась в Адыгее.
Показателен тот факт, что в городских поселениях автономных областей соотношение полов было более благоприятным, чем в селе. Это является результатом того, что, с одной стороны, сельское население сильнее пострадало вследствие репрессий и раскулачивания, с другой – мужское население здесь сокращалось из-за оттока на заработки в город.
Разница в половой структуре сельского и городского населения Краснодарского и Ставропольского (на момент переписи 1939 г. Орджоникидзевского) краев была еще более выражена. На 1 000 мужчин в селе на Ставрополье приходилось 1 103 женщины, в городе – 1 085, на Кубани соответственно – 1 142 и 1 124 женщины. Обращает на себя внимание довольно резкая диспропорция в возрастной группе 20–24-летних.
Это рожденные в период Первой мировой, революции и Гражданской войны. Вместе с тем можно отметить определенные региональные отличия. В городах и городских населенных пунктах Ставрополья дисбаланс полов выражен меньше, чем на Кубани. Существенный разрыв в численности мужчин и женщин здесь обнаруживается только в пожилом возрасте старше 60 лет. В городских поселениях Кубани в молодых возрастных группах (до 34 лет) сохраняется относительный баланс полов. Но в более старшем возрасте (35 и старше) диспропорции становятся более резкими и соотношение полов гораздо хуже, чем в сельской местности. Иначе говоря, в молодом возрасте (до 30 лет) половая структура сельских и городских населенных пунктов в обеих территориях принципиально не отличается, но в следующей возрастной группе ситуация меняется: на Ставрополье более благополучно выглядит ситуация в городских поселениях, на Кубани напротив, – соотношение полов в городе гораздо сильнее нарушено, чем в селе в пользу женщин [7].
Проявляются также этнические особенности в соотношении полов. Так на Кубани у славянских этносов наблюдается значительный разброс в показателях соотношения полов. У русских, например, перевес в сторону женского населения был весьма значительным: на 1 000 мужчин приходилось 1 112 женщин, у украинцев и белорусов, наоборот, преобладали мужчины. Мужчины доминировали и в составе таких групп, как адыгейцы, армяне, грузины, татары, мордва, евреи.
Среди народов Кубани наиболее выражена половая диспропорция у адыгейцев, в городском населении которых доля мужчин достигала 63,1 %. У грузин и татар этот показатель был больше в селе – 61,9 и 65 % мужчин соответственно. Но самая большая диспропорция наблюдалась у евреев в сельской местности, здесь доля мужчин доходила до 72,5 %. Значительный перевес, но только в сторону женского населения показало польское население, у которого в городе доля женщин составляла 62,1 %.
На Ставрополье половая структура у представителей отдельных этнических групп имела свои отличия. Так народы, традиционно проживающие на территории края, имеют более ровную половую структуру. Сильные деформации в половом составе населения, как правило, возникают в результате миграций или различного рода катаклизмов (войн, революций и т.п.) и характерны для тех этнических групп, которые сравнительно недавно появились в регионе.
Как результат миграций можно рассматривать дисбаланс полов у отдельных этнических групп, который наиболее ярко проявляется в городе. В первую очередь это заметно на примере коренных этносов: карачаевцев, адыгейцев и прочих. Так у адыгейцев и чеченцев в городе проявляется фактически двухкратное превышение мужского населения над женским, что вызвано, скорее всего, миграциями коренных этносов из села в город на заработки.
К числу этнических групп, которые можно рассматривать в качестве мигрантских и на Кубани, и на Ставрополье исходя из соотношения полов, можно отнести белорусов, мордву, грузин, бурятов, удмуртов и т.д.
Не успев оправиться от воздействия неблагоприятных факторов усугубивших деформации половозрастной структуры, население страны и регионов подверглось новым испытаниям. Великая Отечественная война с ее масштабными прямыми и косвенными потерями, а также репрессивные меры и депортации накануне и в годы войны нанесли колоссальный урон населению. Массовое истребление населения привело к деформации демографических структур. Необходимо учитывать здесь и тот факт, что на соотношение полов и возрастную структуру повлияла мобилизация мужчин в Вооруженные силы и безвозвратные потери военнослужащих на фронтах, но основная причина все же заключалась в массовой гибели на оккупированных территориях в первую очередь мужского трудоспособного населения.
Статистические сведения периода войны и первых послевоенных лет отрывочны, часто несопоставимы, что значительно затрудняет детальный анализ изменений, происходивших в населении. Представления о масштабах и характере изменений в населении возможно реконструировать, но с определенной долей условности. Так, согласно данным Единовременного отчета о возрастном и половом составе сельского населения Краснодарского края на 1 января 1944 г. на указанную дату в сельских поселениях числилось 2 290 816 чел. [8]. В наличии, то есть находились по месту жительства 1 872 723 чел. и 418 093 чел. отсутствовали (находились на фронте, в эвакуации и т.п.). В наличном же населении 64,3 % (1 204 446 чел.) приходилось на женщин и 35,7 % (668 277 чел.) на мужчин [9].
Ситуация в отношении полового состава была критической – на 1 000 мужчин приходилось 1 802 женщины. Можно сказать, что соотношение полов выглядело практически как 1:2 [10]. Такой перевес на стороне женщин во всех возрастных группах говорит о нарушении естественных процессов воспроизводства и соотношении полов, которое существует в населении при нормальных условиях его развития в виде биологической константы. При вторичном соотношении полов (то есть при рождении) и в младшем возрасте всегда преобладают мальчики. И только к зрелому возрасту (примерно к 30 годам) в населении начинают преобладать женщины. Здесь же мы наблюдаем ситуацию, когда половая диспропорция устанавливается уже в младенческих возрастах. А в возрастных группах 18–24-летних и 25–49-летних она достигает максимума и составляет соотношение 1:4 [11].
Сходная критическая ситуация в половой структуре населения характерна была для многих регионов переживших оккупацию (таблица 1). Как видим, при общей тенденции к увеличению разрыва в соотношении мужского и женского населения регионов Северного Кавказа, заметны региональные и национальные отличия. До оккупации наибольшие деформации в половой структуре имели место в Воронежской и Курской областях, Краснодарском крае.
Наиболее сильные последствия для половой структуры оккупация имела в Краснодарском крае, Воронежской, Курской и Сталинградской областях, где превышение женщин над мужчинами стало практически троекратным. Степень деформации в этом случае зависела, с одной стороны, от исходной ситуации, а так же от длительности оккупационного периода и ожесточенности боевых действий на той или иной территории. В результате половая структура Кубани в сравнении со Ставропольем подверглась большей деформации.
Таблица 1 – Соотношение мужчин и женщин трудоспособного возраста в регионах Северного Кавказа [12]
|
Края, области, автономные республики |
Число женщин на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет, чел. |
|
|
До оккупации |
После освобождения |
|
|
Краснодарский край |
112 |
322 |
|
Ставропольский край |
106 |
260 |
|
Воронежская область |
116 |
295 |
|
Курская область |
116 |
295 |
|
Ростовская область |
108 |
248 |
|
Сталинградская область |
109 |
298 |
|
Кабардино-Балкарская АССР |
92 |
198 |
|
Калмыцкая АССР |
103 |
273 |
|
Северо-Осетинская АССР |
99 |
259 |
|
Чечено-Ингушская АССР |
92 |
106 |
Деформация половозрастной структуры на многие десятилетия определила крайне неблагоприятные тенденции в демографическом развитии страны и регионов. По данным переписи 1959 г. из общей численности населения Краснодарского края, на долю мужского населения приходилось 44,3 % против 48,3 % по стране, а женщин – 55,68 % против 51,7 %. В Ставропольском крае соотношение полов выглядело как 44,6 и 55,4 % [13].
Причем в регионе дисбаланс был значительно большим, чем в РСФСР, где это соотношение выглядело как 1 000 мужчин на 1 069 женщин, на Кубани соответственно 1 250 женщин на 1 000 мужчин, в Ставрополье 1 243. Если в городских населенных пунктах Кубани на 1 000 мужчин приходилось 1 260 женщин, то в селе – 1 240, на Ставрополье соответственно – 1 247 и 1 242 [14].
Более детальный анализ половозрастной структуры населения региона позволяет заметить, что начиная с 16-летнего возраста, за исключением возрастной группы 20–24 года, в населении Краснодарского края обозначился перевес женщин. Чем старше возрастные группы, тем более выражена диспропорция. Особенно резко усилился перевес женщин, начиная с возрастной группы 30–34-летних. Это группы, в которых мужчины на начало войны достигли призывного возраста и соответственно понесли наибольшие потери в результате непосредственного участия в военных действиях. Кроме того, мужское население имело перевес у отдельных народов Северного Кавказа, тогда как в славянских группах это соотношение преимущественно было в пользу женщин.
Как уже было отмечено выше, важным фактором воздействия на половую структуру населения в территориальном разрезе является также степень интенсивности миграционных процессов. В потоке мигрантов, как правило, преобладает мужское население. Соответственно, территории, отдающие население, имеют перевес женского, а принимающие – мужского населения. Несмотря на то, что территории Кубани и Ставрополья традиционно выступали в роли регионов, притягивающих мигрантов, послевоенные диспропорции не могли быть выровнены даже за счет интенсивного миграционного притока в послевоенные годы, доля женщин во всем населении еще долгое время оставалась выше, чем мужского. Вместе с тем, этот фактор проявлял себя в отношении отдельных народов, миграционная подвижность которых была более высокой.
Возрастная структура, так же как и половая, подвергается прямому влиянию внешних факторов. Характеризуя возрастную структуру с точки зрения ее благополучия и оптимального для процессов воспроизводства состояния, необходимо оценить соотношение различных возрастных групп в населении. Различные варианты соотношения трех основных возрастных групп: детской, взрослой и пожилой – определяют соответствующий тип возрастной структуры и режим воспро-изводств населения, характеризующийся определенными показателями рождаемости и смертности и в целом динамикой населения.
Для традиционного общества, которым была Россия на рубеже XIX–XX вв. характерна при высокой рождаемости и достаточно высоких показателях смертности прогрессивная возрастная структура населения и расширенный режим воспроизводства. Прогрессивная возрастная структура отличается большой долей детского населения при незначительной доле пожилого. Как следствие, значительная доля детей обеспечивает в будущем высокую долю родительского поколения и соответственно высокую рождаемость, что, в конце концов, обеспечивает рост населения.
В целом, во второй половине 1930-х гг. российское общество оставалось традиционным по типу воспроизводства населения, то есть в нем был велик удельный вес детей и подростков. Вместе с ними молодежи среди населения было больше половины.
Половозрастные пирамиды и Кубани и Ставрополья в 1939 г. имели схожую форму. Они имели широкое основание, что свидетельствует о высокой рождаемости и соответственно о рас- 293 - ширенном режиме воспроизводства. Обращают на себя внимание глубокие впадины в возрастных группах 5–9 и 15–24 лет – это рожденные в 1930–1934 гг. (в период голода) и 1915–1924 гг. (годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны). При этом впадина в возрастной группе 5–9 лет сильнее выражена на возрастной пирамиде Кубани. Вслед за этими впадинами следуют всплески компенсаторной рождаемости в относительно благополучные годы. На Ставрополье компенсационная волна рожденных во второй половине 1930-х гг. (0–4 года) несколько меньше.
В 1939 г. общество продолжало быть молодым по своему возрастному составу. Дети и подростки до 14 лет составляли 34,6 % от всего населения РСФСР, в Краснодарском крае эта возрастная группа была несколько больше – 36,6 %, Ставропольском – 37,1 %. В целом на лиц молодого возраста до 30 лет приходилось почти две трети населения – 61,9 % в России и по 63,1 % на Кубани и Ставрополье. Пожилых людей в возрасте старше 50 лет насчитывалось в стране 13,2 %, на Кубани – 11,4 %, Ставрополье – 11,8 %. Доля лиц зрелого возраста от 30 до 49 лет в Краснодарском и Ставропольском краях была больше, чем в стране, – на их долю приходилось 26,7; 25,1 и 23,7 %, то есть в среднем четверть всего населения [15].
Население в городах Краснодарского края было более старым, чем в селах. Здесь значительно меньшей была молодая группа (0–19 лет), на долю которой приходилось 35,8 % против 45,3 % в селах. Более половины городского населения составляла зрелая возрастная группа (почти 2/3 всех горожан или 58,4 %). В селах, наоборот, выше была доля детей и молодежи и меньше пожилых, к средней возрастной группе относилось 49,8 % жителей. На группу 60 лет и старше приходилось всего 4,9 % сельских жителей и 5,7 % городских.
Таким образом, сельское население региона в конце 1930-х гг. оставалось молодым, тогда как в городе уже обозначились первые признаки демографического перехода. Важную роль в изменении возрастной структуры городского населения сыграли не только трансформации процесса рождаемости, но и тот факт, что город притягивал основную массу населения в трудоспособном возрасте. Причиной этого была не столько индустриализация, сколько реакция на коллективизацию и голод, попытка прокормиться и прокормить семью. Как свидетельствуют многие документы, значительная часть жителей кубанских станиц в поисках работы, средств к существованию мигрировала в города и в соседние области, например, на Дон, где была работа на шахтах [16].
Анализируя показатели возрастной структуры населения в динамике, можно использовать количественное описание возрастной структуры и ее изменений во времени с помощью двух групп показателей: первая характеризует изменение пропорций возрастной структуры населения в целом, вторая – степень ее старения.
Возрастная структура населения Краснодарского и Ставропольского краев в 1959 г. все еще соответствовала структуре прогрессивного типа. В то же время, если сравнить ее с возрастной структурой населения в 1939 г., то можно заметить, что уже наметилась тенденция к сужению основания возрастной пирамиды и расширению ее верхней части, характеризующей процесс старения населения. Очевиден тот факт, что процесс старения населения как в регионах, так и в стране в целом в рассматриваемый период прогрессирует. Особенностью возрастной структуры населения Кубани и Ставрополья было то, что для нее характерны более низкие, чем в среднем по РСФСР, показатели первой группы (0–14) и более высокие – третьей группы (60 лет и старше). За межпереписной период фактически произошло удвоение доли пожилых людей. Повышение доли лиц в возрасте 60 лет и старше как в стране в целом, так и в регионе стало прямым следствием снижения рождаемости, которая, в свою очередь, обусловлена рядом социальных и экономических причин. Что касается отдельных регионов внутри страны, то на значение этих показателей оказывает влияние преобладающая форма расселения (город-село), миграции, особенности национальной культуры (традиции мало- или многодетности) и прочее.
Возрастная структура населения в городах и сельских местностях имеет свои особенности. В городах, как правило, удельный вес молодежи и лиц среднего возраста заметно выше. Для сельской местности, напротив, характерен более высокий удельный вес детей и лиц преклонного возраста. Это в определенной степени справедливо для Кубани и Ставрополья. Вместе с тем возрастная структура в городе и на селе в регионах имела в 1959 г. некоторую специфику.
Как видим высказанное утверждение действительно в отношении групп детского и трудоспособного возраста. В городе первых меньше, а вторых больше, чем в селе. Но в отношении пожилого возраста ситуация противоположная: эти группы в населении Кубани примерно равны, но на Ставрополье доля пожилых в городе заметно больше, чем в селе. Причем, если взять группу 70 лет и старше, то она уже составляет примерно 5 %, то есть на долю лиц в возрасте 60–69 лет приходится примерно половина пожилого населения.
Более наглядно динамику и изменения возрастной структуры позволяет проследить половозрастная пирамида. Прежде всего, обращает на себя внимание огромная диспропорция полов в возрастном интервале от 30 до 60 лет, это как раз те призывные возраста, которые максимально пострадали в войне. Также необходимо отметить, что к двум предыдущим лакунам, отраженным на пирамидах 1939 г. добавилась еще одна – в интервале 10–19 лет. Это по следствие низкой рождаемости и высокой младенческой смертности в годы войны и первые послевоенные годы. Вслед за ней следует волна компенсаторной рождаемости.
Сопоставляя возрастные структуры Кубани и Ставрополья, отметим, что они фактически идентичны, то есть влияние военных событий отразилось на населении обоих регионов в равной степени. Но есть и свои особенности. Так несколько глубже лакуна в возрастной группе 10–14 лет в структуре населения Ставрополья. Кроме того основание пирамиды у населения Ставрополья по-прежнему широкое, тогда как на Кубани основание пирамиды начинает сужаться, что со всей очевидностью говорит об устойчивом переходе к новой модели воспроизводства населения. Широкое же основание на Ставрополье вероятнее всего связано с возвращением из депортации репрессированных и высланных во время войны за пределы Северного Кавказа карачаевцев, а так же других коренных нардов, у которых пока еще сохраняются высокие показатели рождаемости.
Важными факторами, оказывающими значительное влияние на возрастно-половую структуру в рассматриваемый период, выступают миграционные процессы, которые накладывают отпечаток на возрастной состав городского и сельского населения. Городское население активно растет в это время за счет мигрантов из сельской местности, среди которых преобладают молодые и средние возраста. При этом большей подвижностью отличаются мужчины. За счет этого в городской местности выше удельный вес лиц данных возрастных групп.
Соотношения по полу и возрастным группам изменяются во времени и пространстве. Конфигурация возрастов испытывает воздействие различных причин пертурбационного порядка, которые приводят к резкому снижению рождаемости, повышению смертности и дают впоследствии изломы возрастной кривой в виде провалов.
На региональные особенности соотношения полов и возрастного состава существенным образом влияют факторы, связанные с территориальным перемещением населения, а именно: освоение новых районов; усиленное промышленное развитие отдельных районов, требующее большего применения в отраслях тяжелой индустрии труда мужчин, а в отраслях легкой промышленности – труда женщин; степень концентрации населения в городах и промышленных центрах, а также территориальные различия в жизненном уровне населения. Серьезное воздействие на распределение населения по полу и возрасту оказали войны, эпидемии, голод и другие причины.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по теме «Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966).
-
2. Демографическая модернизация России: 1900–2000. М., 2006. С. 488–491.
-
3. Данные рассчитаны на основе скорректированной численности с учетом приписок переписи 1939 г.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г. Национальный состав населения по районам Краснодарского края. М., 1940.
-
4. Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно» // Всесоюзная перепись населе
ния 1937 г. М., 1996. С. 63.
-
5. Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Таблица ф. 11. Возрастной состав населения // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 607. Л. 17.
-
6. Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Указ. соч. С. 63–64.
-
7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 года … (* без Адыгейской АО).
-
8. Единовременный отчет о возрастно-половом составе сельского населения Краснодарского края на 1 января 1944 г.
// ГАКК. Ф. Р-1246. Оп. 1. Д. 26/25. Л. 1.
-
9. Там же.
-
10. Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г. …
-
11. Там же.
-
12. Колесник А.Д. РСФСР в Великой Отечественной войне. М., 1982. С. 224.
-
13. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992.
-
14. Всесоюзная перепись населения 1959 г. Таблицы 2, 5. Распределение всего населения и состоящих в браке по
полу и возрасту // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1592. Л. 23.
-
15. Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 97.
-
16. См. например: Отклики и воспоминания на статью И.И. Алексеенко // ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 1225. Л. 34–