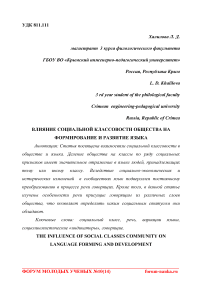Влияние социальной классовости общества на формирование и развитие языка
Автор: Халилова Л.Д.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 10 (14), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена взаимосвязи социальной классовости в обществе и языка. Деление общества на классы по ряду социальных признаков имеет значительное отражение в языке людей, принадлежащих тому или иному классу. Вследствие социально-экономических и исторических изменений в сообществах язык подвергался постоянному преобразованию в процессе речи говорящих. Кроме того, в данной статье изучены особенности речи присущие говорящим из различных слоев общества, что позволяет определить каким социальным статусом они обладают.
Социальный класс, речь, вариации языка, социолингвистические "индикаторы", говорящие
Короткий адрес: https://sciup.org/140277156
IDR: 140277156
Текст научной статьи Влияние социальной классовости общества на формирование и развитие языка
Взаимоотношение языка и социального класса занимает значительное место в лингвистике и социолингвистике, в этнографии общения, в исследованиях позиций языка, в исследованиях об общественных дисскусиях о языке и т.д. Основываясь на изменении языка, под которым подразумевается, что классовая иерархия определяет лингвистическое поведение в зависимости от подхода, выражающего социальную практику и в роли кого представлен говорящий.
Многие социолингвисты на протяжении долгих лет были заинтересованы во взаимосвязи между языком и социальным классом, основу которым положили плодотворные исследования Уилльяма Лабова. Его широкомасштабный обзор образцов произношения жителей Ловер Ист Сайд г. Нью-Йорк, установили, что язык находится в связи с социальными факторами такими как социальный класс, возраст и пол.
Социолингвистические обзоры внедренные и выполненные Лабовым были основаны на предположении, что эти социальные категории в определенной степени контролируют лингвистическое поведение личностей (например, язык предоставляет отражение существующей социальной структуре). Эти исследования определили участвующих по целенаправленным классовым категориям (например, «работающий класс», «средний класс»), используя показатели социально-экономического статуса. Некоторые ученые уделяли первостепенное внимание профессии, в то время как другие предпочитали использовать комбинированный индекс, включающий в себя такие факторы как доход, уровень образованности и степень материальной обеспеченности, в противовес профессии. Речь результирующих социально – классовых групп типично была взята путем длительного собеседования один на один, организованного с целью выявить особенности речи имеющих место при тех или иных обстоятельствах в течение продолжительного общения с исследуемыми носителями языка, как в неформальном «повседневном» стиле общения, так и при использовании официального стиля языка ( при помощи чтения и пересказывания научных статей и т.п., что требовало максимального внимания к речи). [3]
Закономерности социально-стилистической стратификации, которые возникли из ранних исследований были удивительно содержательны и последовательны. Эти исследования продемонстрировали, что для устойчивых социолингвистических показателей (т. е. тех, которые не меняют язык, такие как произношение ing в таких словах как running) представители среднего класса используют более стандартный вариант произношения, по сравнению с произношением представителей рабочего класса. Исследователи этих различий установили дальнейшее различие между типами показателей и уровнями сознания. Они обнаружили, что некоторые показатели – социолингвистические "индикаторы", – имеют малозначительную или вовсе не имеют социальной оценки, связанной с ними.
Показатели меняются в зависимости от социального расслоения, но не различаются в использовании отдельно говорящих. Другие переменные – социолингвистические «маркеры» и «стереотипы» – несут большую социальную значимость. Один вариант считается более социально престижным, в то время как другие могут быть недопустимыми, требующих отдельно взятых говорящих контролировать (хотя и не обязательно сознательно) их собственную речь, доводя ее к общеустановленной норме. [1]
Ранние исследования обнаружили, что все говорящие следуют той же общей схеме с учетом следующего стилистического варьирования: они систематически увеличивают в своем использовании "стандартных" вариантов (и уменьшают употребление в своей речи «нестандартных» вариантов или «просторечий»), в то время когда восприятие формальности речевой ситуации увеличивается. Таким образом, социолингвистические показатели могут свидетельствовать о социально-стилистической стратификации, что в свою очередь затрудняет возможность отличия «случайного торговца от высококвалифицированного специалиста». Это наблюдение было названо «классической социолингвистической находкой»: если особенность (лингвистическая) встречается более часто у принадлежащих к низшему классу, по сравнению с людьми из высшего класса, то эта особенность будет также более распространена в неформальной речевой обстановке определенной социальной группы.
Стилистические вариации среди говорящих на одном языке были теоретизированы как связанные с межгрупповыми вариациями, так что ораторы моделировали свой самый формальный стиль в отношении речевого поведения в группе, которая занимает более высокое место в социальной «пирамиде». Классовая стратификация в обществе, таким образом, была воспроизведена в рамках стилистического поведения самих докладчиков. [2]
Согласованные модели сдвига стиля, определенные в исследовании Лабова, привели его к предположению, что большинство жителей Нью-Йорка согласны с тем, какие варианты речевого общения более престижные или имеющие больше статуса, эти варианты они и используют зачастую в формальной ситуации. Он протестировал эту гипотезу с помощью специально подобранного эксперимента, призванного выявить откровенные оценки его участников - образцы записанной речи. Жители Нью-Йорка дали последовательные ответы на аудиозаписанные вопросы, которые они слышали, в целом соглашаясь с тем, какие черты нью-йоркского акцента были стигматизированы и имеют высокий статус, независимо от их классового обозначения или их собственное использование этих форм. В свете этих доказательств Лабов сделал заключение о социальной стратификации Нью-Йорка: «Нью-Йорк - это речь сообщества, объединенная общей оценкой тех же переменных, которые служат для дифференциации динамики ". Другими словами, если говорящие расположены на разных уровнях в социально-экономической иерархии, они и язык используют по-разному, они делают так в отношении общего набора норм.
Ник Коупланд нашел аналогичные модели социальной и стилистической стратификации в своем исследовании туристического агентства Кардиффа. Как и Лабов, первоначально Коупланд интересовался социолингвистическим разнообразием города, но он хотел избежать ограничений, налагаемых традиционным социолингвистическим собеседованием. [4]
Туристическое агентство предоставило более «естественную обстановку», в рамках которой была представлена речь людей из разных социальных классов, их беседа с помощником по продажам Сью. Он изучил четыре фонологических переменных в речи 51 клиента, которые были записаны. Эти говорящие были разбиты на шесть социальных групп, согласно Регистратора классификации профессий. Использование клиентами более или менее стандартных фонологических вариантов, относится к ожидаемому направлению (т. е. те, которые на вершине профессиональной иерархии используют больше «Стандартные» варианты, в то время как те, что находятся на нижних ступенях иерархии, использовали больше «просторечие»).
Тем не менее, Коупланд больше интересовался выступлением помощника по продажам. Он проанализировал речь Сью в четырех разных контекстах: «случайный», «неформальная обстановка», «Клиент» и «телефон» - и отметил такую же стилистическую иерархию, как в работах Лабова и других исследователей. Более формальные клиентские и телефонные контексты были связаны с самой стандартной речью Сью и случайным контекстом (например, общение с коллегами о нерабочих темах) был связан с обычной речью Сью.
Коупланд предположил, что рутинное изменение стиля Сью может стать источником в ее отношениях с клиентами. В более позднем анализе он сравнивал ее речь с тем, с кем она разговаривала во время продаж и обнаружил, что она изменила свой акцент, чтобы он соответствовал стилю речи ее собеседника. Это конвергентное аккомодативное поведение было наиболее заметно, когда Сью обращалась к клиентам из более низкого социально-экономического класса; в таких обстоятельствах речь Сью изменилась к менее стандартным фонологическим вариантам. Коупланд пришел к выводу, что речь Сью была почти таким же хорошим показателем социального класса ее клиентов, как и их собственная речь. Как и в исследовании В. Лабова, стиль Сью предполагает стратификационный эффект, «вопрос о том, что Сью «живет »или претворяет в жизнь часть вариации сообщества в ее собственном речевом репертуаре ". В свою очередь, масштабная классовая стратификация была интернационализированная отдельными говорящими (хотя более поздний повторный анализ Коупланда, предполагает, что эта интерпретация упрощает социальную значимость класса, которая была произнесена в речи Сью). [2]
В различных исследованиях, основывающихся на учениях В. Лабова, была выделена социолингвистическая стратификация речевых сообществ. Эти исследования также имели решающее значение в теории изменения языка (действительно, основная мотивация Нью-Йоркского исследования для Лабова состояла в том, чтобы получить представление о механизмах языковых изменений).
Теория практики излагает «концептуализацию формулировок между практикой социальных субъектов» как «основу» и «большие» структуры и «системы», которые обе ограничивают эту практику и все же в конечном итоге восприимчивы к их трансформации».
Это предполагает многообещающий подход в попытке понять взаимосвязь между языком и социальным классом. Пенелопа Экерт впервые применила этот подход в области варьируемой социолингвистики. Эккерт объясняет, что теория вариаций языка как социальной практики, рассматривает говорящих как составляющих социальной категории и активно конструирующих социальное значение вариации. Этот подход наиболее четко сформулирован в ее этнографии Бельтен Хай, школа в Детройте, США. [5]
Эккерт провела два года, взаимодействуя со студентами, посещающими Бельтен Хай, и в школе и в местных кварталах, и при этом она создала картину их дружбы, интересов, ценностей и отношений. Используя этот этнографический подход, она определила два оппозиционные «сообщества практики»: «озорные» и «сгорающие». Это были группы подростков, которые общались друг с другом на регулярной основе, разделяли общие взгляды на школу и имели схожие надежды и желания на будущее за пределами образования. Изучая эти местные категории, Эккерт была в состоянии получить местное значение социального класса для подростков в этой школе. «Озорные» участвуют в корпоративной жизни школы, участвуя во внеклассных мероприятиях (например, спортивные игры, школьное правительство и школьная газета). Эти формы участия подготовили их к колледжу и для их места во взрослой средней школе, классовой культуре. С другой стороны, «сгорающие» были отчуждены от школьной культуры.
Они поддерживали прочные связи между соседями и ориентировали свое внимание на общественность. В результате их социальная траектория была направлена на получение работы после школы в местности где они проживают с участием в культурной жизни рабочего класса.
Оппозиционный статус этих «сообществ практики» был построен через ряд символических практик, включая территорию, одежду, употребление психоактивных веществ и, что важно, язык. [1]
Лингвистический анализ Эккерта был сосредоточен на одной синтаксической переменной, отрицательного содержания и шести фонологических переменных. Как и в предыдущих исследованиях ученых, она рассмотрела вопрос о том, как использование этих переменных подростками коррелирует с макроуровнем социальных категорий, таких как класс и пол, но затем она открыла свой анализ для определения последствия принадлежности подростков к сообщностям «озорные»/ «сгорающие».
Только отрицательное согласие показало значительную корреляцию с социальным классом (измеренным здесь с точки зрения социальноэкономических характеристик родителей говорящих). Подростками, принадлежащими к рабочему классу чаще используется нестандартный вариант языкового общения, чем их сверстниками из среднего класса.
Таким образом, выше изложенное позволяет выделить конкретную траекторию в анализе развития класса в социолингвистике. Основное внимание было сосредоточено на изменении языка, в зависимости от социальных классов говорящих, что определяет их лингвистическое поведение, об особенностях изменения речи говорящих в зависимости от речевой обстановки, в которой они находятся.
Список литературы Влияние социальной классовости общества на формирование и развитие языка
- Найман Е.А. Социолингвистика/Е.А. Найман. -Томск: Национальный фонд подготовки кадров, 2004. -222с.
- Лабов У. Социальная стратификация английского языка в г. Нью-Йорк/У. Лабов. -Кембридж, Великобритания: Издательство университета Кембридж, 2006. -499 с.
- Милрой Л., Гордон М. Социолингвистика: метод и интерпретация/Л. Милрой, М. Гордон. -Оксфорд, Великобритания: Блеквелл Паблишин, 2003. -277 с.
- Горшков М.К. Некоторые методологические аспекты анализа среднего класса/М.К. Горшков. -Москва: СОЦИС, 2000. -издание № 3.
- Кречмер А. О понятийном аппарате социолингвистической теории личности. Социальные исследования. Теория и методы/А. Кречмер. -Москва: Наука, 1970. -367 с.