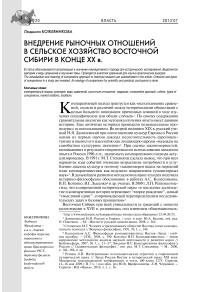Внедрение рыночных отношений в сельское хозяйство Восточной Сибири в конце XX в
Автор: Кожевникова Людмила Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается актуализация и значение компаративного подхода для исторического исследования. Выделяются критерии и виды сравнений в изучении темы. Проводится аналогия сравнений для научно-практических выводов.
Компаративный подход, критерий, виды сравнений, рыночные отношения, традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170167013
IDR: 170167013
Текст научной статьи Внедрение рыночных отношений в сельское хозяйство Восточной Сибири в конце XX в
К омпаративный подход трактуется как «использование сравнений, сходств и различий между историческими обществами с целью большего понимания причинных влияний в ходе изучения специфических или общих случаев»1. По своему содержанию сравнительная аналогия как методика изучения опыта имеет давнюю историю. Еще античные историки проводили познавательные процедуры с ее использованием. Во второй половине XIX в. русский ученый Н.Я. Данилевский при сопоставлении культур Европы и России одним из первых научно доказал несостоятельность европоцентризма и оценил его идеологию как лишающую народы «надежды на самобытное культурное значение»2. При оценке закономерностей, возникающих в результате некритического использования западного опыта в России 1990-х гг., значимость компаративного подхода актуализировалась. В 1991 г. М.Т. Степанянц сделала вывод, что при всех вариантах хода событий очевидно возрастание потребности в углублении диалога культур и поэтому «закономерен выход на передний план компаративистики как ведущего направления гуманитарных наук»3. В дальнейшем развитии методологии науки эта идея получила историко-философское обоснование в работах А.С. Колесникова, В.П. Котенко, В.Г. Лысенко4 и др. ученых. В 2009 г. Л.П. Репина отметила, что в современной исторической науке «в последнее десятилетие и компаративная история переживает “второе рождение”, новый “смысловой сдвиг”, сопровождаемый переопределением исследовательских задач и базовых принципов»5.
Восточная Сибирь при всей уникальности ее традиций с момента колонизации в XVII в. развивалась под влиянием общенациональ-
КОЖЕВНИКОВА Людмила Михайловна – к.и.н., доцент кафедры туризма, управления и административного права Красноярского филиала РГСУ, директор филиала lyudmila.
-
1 http://www.soclexicon.ru/komparativnaya-istoriya (дата обращения 25.04.2013).
-
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. / сост. и ком. Ю.А. Белова, отв. ред. О. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2008, с. 564.
-
3 Степанянц М.Т. Человек в традиционном обществе Востока (опыт компаративного подхода) // Вопросы философии, 1991, № 3, с. 140.
-
4 Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток–Запад : учебное пособие. – СПб., 2004, с. 390; Котенко В.П. Компаративистика – новое направление методологии анализа научной деятельности и развития науки // Библиосфера, 2007, № 3, с. 21–27; Лысенко В.Г. Компаративная философия в России // Сравнительная философия / отв. ред. М.Т. Степанянц. – М., 2000, с. 146–166, и др.
-
5 Репина Л.П. Интегративные исследовательские стратегии в современной исторической науке // Запад-Россия-Восток в исторической науке XXI века: Материалы международной конференции в честь 100-летия СГУ. Саратов, 14–16 мая 2009 г. В 2 ч. / под общ. ред Ю.В. Варфоломеева, Л.Н. Черновой. – Саратов : ИЦ «Наука», 2010, ч. 1, с. 16.
ных российских традиций. История России генетически связана с западной цивилизацией, но эта взаимосвязь в ракурсе выделенного критерия не имеет исторического характера. Весь путь ее эволюции детерминирован целенаправленным влиянием государства на сферу обращения. Эта особенность не была учтена в общегосударственной стратегии внедрения рыночных отношений в начале 1990-х гг. Его тактика была нацелена на радикальный переход от централизованного регулирования сферы обращения в советский период к свободе предпринимательской инициативы в товарно-денежном обмене между производством и потреблением. С целью обеспечения стратегии предполагалось в кратчайшие сроки модернизировать весь механизм управления аграрной сферой, что и нашло отражение в законодательных актах, принятых в соответствии с указами президента РФ в декабре 1991 г.1
Поскольку тактика переходного периода была нацелена на саморегулирование рынка, то, соответственно, некритически был использован западный опыт. В архивных материалах отложились сведения о приглашении в 1992 г. в Россию группы юристов Института развития села США для консультаций в ходе аграрной реформы. Совместно с сотрудниками Аграрного института американские правоведы в сентябре участвовали в 3 экспедициях в колхозы, совхозы и уже созданные фермерские хозяйства. По их итогам комиссия подготовила выводы и практические рекомендации. В них, наряду с конструктивными предложениями о создании кооперативов, развитии сельскохозяйственного кредита и других составляющих рыночного хозяйства, внесено два «фундаментальных положения». Первое имело вид радикальной стратегии: «государство должно перестать вмешиваться в производство продовольствия». Второе вытекало из него и, по сути, означало пропаганду фермерства: «по целому ряду причин можно заключить, что для российского сельского хозяйства фермер- ство – это подходящая форма хозяйствования». Подчеркивалось, что это доказано мировым опытом2.
Подтверждением практического использования рекомендаций является направление их 25 ноября 1992 г. Государственным комитетом РФ по земельным ресурсам и землеустройству в регионы для руководства в проведении аграрной реформы на местах3. Кроме этого, 11 марта 1993 г. между правительствами РФ и США было подписано соглашение на 5 лет об учреждении смешанной российско-американской комиссии по агробизнесу и сельскому развитию. Цель создания обозначена как повышение эффективностисоциально-экономической сферы сельского хозяйства за счет реализации совместных проектов. Особо оговаривалось, что средства на них формируются от продажи сельхозпродукции, поставляемой в РФ из США в соответствии с разд. 416(б) сельскохозяйственного акта 1949 г. в качестве гуманитарной помощи4. Отдельные документы свидетельствуют о выполнении намеченных проектов5.
В дополнение к приведенным данным следует подчеркнуть, что идеи западного варианта переходного процесса в России придерживался и шведский экономист А. Ослунд – один из советников начала рыночных реформ. В 1996 г. он писал о возможности для российских условий повторения оправданного экономическим прогрессом опыта развитых стран: «Подходящими историческими примерами могут служить Западная Европа и Соединенные Штаты XIX в. до того, как были созданы капиталистические институты, а законность находилась в относительно зачаточном состоянии»6.
Изучение на материалах Восточной Сибири внедрения в реальную практику стратегии, сформированной на основе вышеизложенного, высветило в аграрной сфере комплекс негативных закономерностей, что привело к спаду сельскохозяйственного производства. В 1997 г. в регионе валовой сбор зерна (в весе после доработки) снизился по сравнению с 1990 г. на 24,7%, производство основной продукции скота и птицы на убой (в убойном весе), соответственно, на 40,4%1. Преодоление последствий этих реформ происходит до настоящего времени. При этом с вхождением России в ВТО у товаропроизводителей могут возникнуть дополнительные проблемы.
На внутреннем уровне диахронная аналогия проводилась между двумя периодами: 1906–1917 гг. и 1990-е гг. Сравнивались результаты социальных действий субъектов сельскохозяйственного производства, обусловленные изменением вектора аграрной политики. Следует при этом иметь в виду, что при развитии крестьянской инициативы после отмены крепостного права государство сохраняло ведущие позиции в сфере товарно-денежного обмена. Но, несмотря на различие в тактике внедрения рыночных отношений между двумя временными интервалами, было выявлено сходство в создании посреднических организаций. Примером является организация в Иркутской губернии в начале 1914 г. Кустарного комитета2 и ОАО «Иркутская продовольственная корпорация» – в 1996 г3. Объединяют их 2 фактора: учредители и цели деятельности. Организаторами в обеих структурах являлись предприниматели и региональные государственные органы различного уровня. Сходным в основных видах деятельности обеих организаций является установление для сельхозпроизводителей источников связей в сбыте и приобретении материально-технических ресурсов. Своей деятельностью все возникающие аналогичные союзы в пределах региона в различные временные интервалы нейтрализовали теневые посреднические структуры, активизировавшие свою деятельность с началом поощрения государством свободы товарно-денежного обмена.
Другими диахронными сопоставлениями на внешнем и внутреннем уровнях было подтверждено историческое своеобразие фермерства как типа хозяйствования в Восточной Сибири. В дореволюционной Сибири оно сочеталось с общинной и кооперат ивной формами. Сибиревед
Л.М. Горюшкин в 1967 г. высоко оценил роль крестьянской инициативы, но при этом сделал вывод: «Черты фермерской эволюции в Сибири и не могли быть копией американских, ибо в каждой стране, в том числе и в Сибири, они неизбежно имели своеобразие, обусловленное конкретно-исторической обстановкой»4. Прогнозы американских правоведов о его преобладании в современной перспективе не оправдались. Повышение социальной активности сельского населения под влиянием пропаганды фермерских хозяйств в начале 1990-х гг. в результате возникающих негативных закономерностей к 1995 г. стало постепенно затихать. Уже с 1992 г. фермеры объединялись в ассоциации для совместной деятельности и поиска путей выхода на рынок5.
Из синтеза всех диахронных аналогий следует общий вывод, что поведение субъектов рыночных отношений в 1990-е гг. в условиях Восточной Сибири никак не аналогично западному варианту того или иного периода. Социальные действия сельских предпринимателей имели традиционную направленность. Государственные органы регионов, в свою очередь, согласно историко-генетической связи изучаемого критерия, являлись активными инициаторами создания посреднических структур в сфере товарноденежного обмена. Этот вывод вписывается в исследование России в глобальном мире, проведенное В.И. Жуковым, который отметил сохранение в «российской вековой традиции общинности в государственном устройстве и соборности в русском законотворчестве»6.
Второй, синхронный, вид сравнений предполагает соотнесение критерия в социально-экономических системах, развивающихся в один и тот же промежуток времени. Он использовался для сопоставления переходных процессов в Китае, Вьетнаме, государствах СНГ, Восточной,
Юго-Восточной Европы и в Восточной Сибири на рубеже XX–XXI вв. На примере современной модернизации в Китае нагляднопрослеживаетсязначимостьучета рассматриваемой историко-генетической связи в роли государственного влияния на сферу товарообмена. Конкретно это выражается в содействии государства развитию товарно-денежных отношений, создании «свободных экономических зон» для развития предпринимательской инициативы, посреднических организаций и т.д. По прогнозам китаеведов, страна в начале XXI в. представляет собой перспективную модель экономического развития1.
Пример Китая не означает смещения аргументации автора в пользу переориентации на китайский вариант в становлении рыночных отношений в Восточной Сибири. Он является подтверждением необходимости сохранения уникальности и обусловленности переходного процесса исторически сложившимися особенностями.
Дополнением к сравнению практического опыта является сопоставление теоретических позиций ученых и известных реформаторов современности. Например, ведущие теоретики неолиберализма М. Фридмен и Ф. Хайек во второй половине XX в. критиковали усиление роли государства в экономике после внедрения в практику антикризисной программы «нового курса» Ф. Рузвельта и защищали исторически сложившиеся в западной цивилизации преимущества саморегу-лирования2. Основатель современного Сингапура Ли Куан Ю для переходного периода стран восточного типа развития обосновал ведущую роль государства при внедрении рыночных отношений. С этой целью он ввел понятие «просвещенный авторитаризм»3. А.С. Ахиезер, В.В. Ильин и А.С. Панарин в 1996 г. утверждали: «Тот, кто не видит уникального, неповторимого в истории России (сводит неповторимое к досадным пережиткам, подлежащим элиминации), закрыт для творческого понимания»4. Придерживаясь их позиции и подходя творчески к исследованию обозначенной темы с учетом современных методологических требований и установок, можно сделать следующие научнопрактические выводы.
Сравнение социально-экономических систем на примере выделенного критерия, имеющего в них историко-генетическую связь, аргументирует уникальность традиций. Становление рыночных отношений в различных странах не происходило и не происходит по единой схеме. Путь развитых государств западного типа – с применением методов государственного регулирования рынка, восточного – с переориентацией государства на поддержку механизмов саморегулирования в сфере обращения. Причем каждый из них в отдельно взятой социальноэкономической системе имеет свою специфику. Исследование практики внедрения рыночных отношений в сельское хозяйство Восточной Сибири высветило свой, поливариантный характер переходного процесса. Радикальная стратегия, содержащая, по сути, некритическое использование западного опыта, в конкретной практике региона 1990-х гг. приобрела не запланированную в замыслах реальность. Социальное поведение субъектов аграрного производства оказалось во многом традиционным – подобным национальному дореволюционному, когда государство было ориентировано на поддержку основ рыночных отношений. Поэтому в современных условиях опыт других стран, в т.ч. и западного типа развития, необходимо изучать и использовать, но не копировать. Учитывая уникальность России и Восточно-Сибирского региона, в настоящее время важно формировать практики саморегулирования и государственного регулирования, которые характерны для исторически сложившихся здесь особенностей. Уже на этой основе, в свою очередь, должно складываться своеобразие в системе рыночных отношений в целом и во всех ее составляющих..