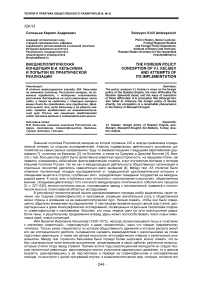Внешнеполитическая концепция В. И. Кельсиева и попытки ее практической реализации
Автор: Соловьев Кирилл Андреевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются взгляды В.И. Кельсиева на внешнюю политику Российской империи, на основные трудности, с которыми сталкивалась российская дипломатия на пути реализации своих задач, а также на средства, с помощью которых можно было бы преодолеть эти трудности. Делается вывод, что, хотя Кельсиеву и не удалось оказать прямого воздействия на внешнеполитический курс России, его концепция представляет собой значимое явление в славянофильской мысли.
В.и. кельсиев, внешняя политика российской империи, панславизм, славянофильство, балканы, турция, австрия, галиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14936366
IDR: 14936366 | УДК: 93
Текст научной статьи Внешнеполитическая концепция В. И. Кельсиева и попытки ее практической реализации
В российской геополитической мысли рассматриваемого периода особо выделялись такие течения, как позднее славянофильство и панславизм, игравшие значительную роль в общественной жизни страны и влиявшие на ее внешнеполитический курс. Нельзя сказать, чтобы они были совершенно обделены вниманием исследователей. К настоящему времени вышел целый ряд статей, диссертационных и даже монографических исследований, посвященных отдельным теоретикам позднего славянофильства и панславизма. Впрочем, это лишь первые шаги на пути всесторонней разработки темы, и решительному продвижению вперед здесь может поспособствовать поиск новых имен, новых идей, новых концепций.
Имя Василия Ивановича Кельсиева (1835–1872), некогда произносившееся лишь в сочетании с эпитетами «известный», «пресловутый» и даже «знаменитый», мало что говорит современному читателю. Только узкие специалисты по истории общественного движения и истории раскола знают его как оппозиционного деятеля, пытавшегося наладить взаимодействие с раскольниками на почве подготовки революции, а также как автора нескольких этнографических очерков о религиозном инакомыслии. Между тем, горизонты Кельсиева были гораздо более широкими; можно сказать, что он был оригинальным политическим мыслителем, затрагивавшим в своих работах различные вопросы, которые стояли тогда перед страной. Причем если в годы революционной молодости он создал теорию сектантской революции, вдохновившую многих участников радикального движения, то в зрелом возрасте, разочаровавшись в ее перспективах и перейдя на славянофильские и консервативные позиции, он выступил с целой программой внутри- и внешнеполитических мер, которые, согласно его мнению, должно было осуществить правительство. Может быть, она и уступает по своей значимости концепциям, созданным И.С. Аксаковым, К.Н. Леонтьевым и Н.Я. Данилевским, но, бесспорно, заслуживает внимания (примечательно, что сам Леонтьев называл Кельсиева «одним из полезнейших национальных писателей наших» [6, c. 16]). Особенно это касается ее внешнеполитической части: долгие годы жизни за границей, сначала в Англии, затем в Турции и, наконец, в Австрии позволили приобрести ему большие познания в международных делах и выработать стройную систему взглядов на то, какой должна быть политика России по отношению к другим странам.
Исходной посылкой в построениях Кельсиева является весьма популярная в те годы и наиболее четко выраженная в трудах Данилевского идея «всеславянского государства» под эгидой России. «Вся цель и идеал славянства состоит в том, чтобы слиться, во что бы то ни стало, воедино, – писал он, – слиться в один народ, возыметь один язык, одну азбуку, одну церковь, так чтоб чех считал бы себя в Москве так же дома, как великорус будет считать себя дома в Праге» [7]. В этих условиях на Россию возлагается особая задача – быть двигателем и координатором объединительных процессов, защитницей всех славянских народов, угнетаемых австрийцами и турками: «полагаясь на наши тяжелые мышцы, братья-славяне могут к нам примкнуть и следовать за нами, зная то, что плечо наше не дрогнет <…> от чужого удара» [8].
Декларируя готовность России стать предводительницей славянства, Кельсиев прекрасно понимал, насколько нелегка эта задача, и с какой ответственностью следует подходить к ее выполнению. Основные трудности связаны с тем, что у России есть могущественные соперники, прежде всего Франция, стремящаяся к европейскому господству. Кельсиев полагал, что из-за активности французских агентов в Турции и на Балканах Россия стремительно теряет авторитет, которым она традиционно пользовалась среди южных славян и вообще православного населения региона. Контакты с французскими дипломатическими представительствами являются для местных жителей единственным источником информации о политических событиях, а подают французы эти сведения «в искаженном виде», то есть, возвышая Францию и принижая Россию: «Франция представляется единственною охранительницей угнетенных народностей; она бы сильнее стояла за них, если бы ей не мешала Россия. <…> Наполеон Европою управляет, он запрещает России завоевать Турцию, он предписал России освободить крестьян» [9, c. 356]. Жертвами антироссийской пропаганды оказываются, прежде всего, представители образованных классов, простонародье же, находящееся под властью Турции (да и Австрии), все еще сохраняет веру в «Русского Царя» (словаки объясняли неудачный для Австрии исход войны с Пруссией в 1866 г. тем, «что Русский Царь прогневался на Цесаря и не помог ему», а сербы и хорваты «чуть не на шею» бросались Кельсиеву за то, что он русский) [10; 11, c. 23]. Однако, как бы хорошо ни относились к России простодушные мужики, все-таки не им принадлежит решающий голос, «и вот, умри какой-нибудь поляк или болгарин-католик, действовавший во вред нам – русский консул его отравил; сделайся пожар... – русское посольство подожгло; крикни пьяный грек на улице против турок… – русские подбили» [12].
Россия же в настоящее время бессильна переломить эту непростую ситуацию, грозящую ей полной потерей влияния на Юго-востоке Европы и установлением там французской гегемонии. Главной причиной неспособности нашего внешнеполитического ведомства отстаивать национальные интересы являются порядки, унаследованные от министерства К.В. Нессельроде, а также вообще ставка лишь на «хорошие отношения между правительствами», которая кажется Кельсиеву безнадежно устарелой. «Теперь, – пишет он, – мнение об нас каких-нибудь молдавских лавочников, болгарских огородников и сербских каменщиков и свинопасов вовсе не так мало значит, как в прежние времена» [13]. Между тем, двери русских посольств и консульств по-прежнему остаются для них закрытыми, и они, не видя альтернативы, идут в представительства наших соперников. Следствием заискивания перед великими державами и пренебрежения интересами народных масс является подрыв доверия, с которым всегда относились к России православные жители Балкан. «Мы не скроем, что они больше верят в Наполеона, чем в Россию», – писал Кельсиев [14].
Выходом здесь может быть лишь переустройство русского дипломатического ведомства на принципиально новых началах. Во-первых, наши внешнеполитические представители должны «не стеснять себя старыми инструкциями, а делать все, что покажется им выгодным для привлечения к нам православных и прочих славянских народностей», «сближаться» с которыми должно быть поставлено им в обязанность; повышения же по службе «хоть по принципу» следует производить «за действительную пропаганду любви к нам, а не за умеренность и аккуратность». Важнейшим средством всего этого должна стать вооруженность дипломатов соответствующими сведениями: служащим МИД «вменяется в обязанность изучение пяти главных славянских наречий», а получать должности при посольствах и миссиях должны лишь те, кто «три года прожил между славянами, ознакомился с их бытом, литературой, представителями»; предусматривает проект Кельсиева и регулярные поездки членов посольств «для сближения с влиятельными лицами в славянстве». Кроме того, наши посольства и консульства должны «защищать русских, находящихся за границей, и содействовать им в изучении чужих краев». Кельсиев даже предлагает перевести подобную деятельность на профессиональную основу и создать «из способных лиц средних и низших сословий, которым обычай и условия дипломатической деятельности преграждают путь к службе <…> “Общество русских путешественников”». Их обязанностями должны стать сбор сведений о настроениях в соседних странах, налаживание негласных связей, иными словами, то, что не всегда может открыто сделать официальный представитель [15]. В другом месте «Исповеди» – документе, написанном им в знак раскаяния и адресованном импе- ратору, Кельсиев резюмирует: «Надо <…>, чтоб у правительства было побольше друзей, а во-вторых, поменьше врагов. <…> Все в его руках, была бы только охота да ловкие агенты» [16].
Принципиальное значение имеет и общественный интерес к тому, что происходит в славянских землях. «Общество наше до сих пор еще не высказывалось <…> о славянах, – писал Кельсиев, – и мне часто случалось <…> слышать обвинения нас в равнодушии к этим столь близким нам вопросам. <…> Если нам выгодно пожертвовать славянским возрождением, если нам выгодно, в видах Австрии, вредить румынам, если нам самим так страшен принцип национальностей <…>, то дипломатии нашей нечего делать. Общество наше не заявляет своего мнения; <…> ему все равно, что на Западе идет деятельная работа, чтоб оттолкнуть от нас славян и запугать их нами – о чем же тут хлопотать нашей дипломатии?» [17].
Если же дипломаты будут руководствоваться старыми принципами, а общество не откажется от безразличного отношения к международным делам, Россию ждет весьма незавидная перспектива. В свою бытность в Константинополе Кельсиев стал свидетелем того, как французы вместе с их верными союзниками поляками при негласном одобрении турецких властей и греческих иерархов пытались навязать болгарам унию. Болгарская православная церковь тогда еще не имела автокефалии и подчинялась Константинопольскому патриархату, что не устраивало болгарскую общественность, стремившуюся к вероисповедной независимости. Начавшиеся гонения против славянских обрядов заставили болгар выступить за отделение болгарской церкви от Константинопольского патриархата, который, в свою очередь, обвинил русский Синод в содействии схизматикам. Наше церковное начальство, однако, отвергло эти инсинуации и стало оказывать грекам всемерную поддержку, хотя мнение многих представителей общественности было на стороне болгар [18]. В итоге славянский народ нашел понимание у французов и поляков, задавшихся целью подчинить его Папе, что, правда, им не удалось; затем устремили свои взоры в Болгарию и американские миссионеры-протестанты. Кельсиев рассматривал эту ситуацию как прямое следствие пороков нашей внешнеполитической позиции: «Мы-то именно одни и имеем право поставить им патриарха, хотя, по застенчивости нашей, и отказываемся от этого права»; результат – «славянство <…> находит сочувствие только в иноплеменниках и, вместо того, чтобы сближаться с нами, вынуждено от нас отделяться» [19]. В силу геополитических причин угрожать России может и Австрия, «дряхлая» и «умирающая», но все же лежащая к русским границам гораздо ближе, чем Франция. Она вполне может содействовать болгарам и сербам в создании независимых государств и, опираясь на их поддержку, продолжит «свое знаменитое <…> Drang nach Osten », поглотит Молдавию и Валахию, «станет морскою державою, и в нескольких часах от Одессы явятся австрийская таможня и австрийская гавань» [20].
Эта застенчивость и бездумное отношение к своей роли на мировой арене в будущем могут стоить России еще больших потерь. Дело в том, что проживавшие в Стамбуле поляки начали завязывать сношения с кокандцами, хивинцами и бухарцами, территории которых тогда активно присоединялись к империи. Более того, некоторые деятели польской эмиграции решили установить связи с китайским и японским правительствами. «И это будет посерьезнее их цареградских дел, – писал Кельсиев. – Гордоны и Лефорты из поляков при китайских и японских Петрах Великих, движимые ненавистью к нам, не пропустят случая насолить нам в Монголии, Маньчжурии и в самой Сибири. Китай и Япония вовсе не дряхлая Турция. У них есть народность, образованный класс и желание учиться. Ближе нас никто не заинтересован судьбой этих двух действительно великих держав, а мы равнодушно смотрим на распространение там католичества и протестантства, запрещаем проповедь православия. Немцы и американцы уже образовывают тамошние войска по-европейски, а русских офицеров там нет. <…> А ведь нам ничто не ручается, что Сибирь вечно останется в покое. Сибирь же в руках иноплеменников, будь они даже нашими подданными, убьет Россию» [21]. Вообще, говоря о российской экспансии на Востоке, Кельсиев призывает устраивать в Ташкенте русские школы «вместо татарских», называть местности в Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, на Амуре по-русски, а не «на всевозможных диких языках» [22, c. 179].
Особое место в системе внешнеполитических взглядов Кельсиева занимала проблема русинского меньшинства, проживавшего в Галичине (Восточной Галиции, австрийской провинции). Очевидно, в занятиях проблемами этого осколка Киевской Руси, находившегося под властью Польши, а затем Австрии, и состоит специфика Кельсиева как славянского деятеля. По словам Н.М. Пашаевой, «судьбы русских галичан <…> гораздо меньше в ту пору интересовали и русскую дипломатию, и славянофилов, чем судьбы сербов или болгар» [23, c. 57], поэтому он во многом выходил за рамки «типичного» славянского деятеля 1860–1870-х гг., которого в первую очередь волновала трагедия народов, угнетаемых турками-османами. Следует отметить, что к идее «всеславянского государства» он пришел именно благодаря состоявшемуся в Вене знакомству с галицко-русскими деятелями, уверявшими его в своей беззаветной преданности России как единственной «реальной силе славянства» [24]. От них он узнал о непростом положении униатской церкви, прихожанами которой в своем большинстве являлись русины (коренные жители Галиции). Униаты формально подчинялись Риму, но, по сути, должны были оставаться православными, сохраняя неизменным восточный обряд, порядок богослужения и внешний вид священнослужителей. На практике, однако, они вынуждены были уступать все более усиливавшемуся давлению со стороны католических иерархов, и униатские обряды все более уподоблялись западным, грань между «греко-католической» и «римско-католической» церквями постепенно стиралась. Единственный выход здесь заключался в воссоединении с Россией. «Под боком живет и процветает единокровный русский народ, который не стыдится ни своего имени, ни своего происхождения, ни своей аз- буки. <…> У этого народа свое огромное войско. <…> Этот народ владеет миром от Черного моря до Тихого океана, он в чести и в силе <…> лучше ж лить за него кровь и нести одну с ним тягу», – так передавал Кельсиев чаяния русинов [25].
«Беспокойная» и «предприимчивая натура» не позволила ему «изучить дело понаслышке», довольствуясь одними разговорами, и осенью 1866 г. он предпринял рискованную поездку по Галичине и Карпатам, чтобы на месте изучить современное положение региона (надо сказать, что в результате экспедиции он был арестован и вообще чуть не погиб). В результате своих полевых этнополитических изысканий Кельсиев пришел к выводу, что положение русинского населения в Галиции не просто тяжело, но близко к катастрофе. Это касалось практически всех аспектов его быта – от социальноэкономических до духовных. Русинское население состояло в основном из двух сословий – духовенства и крестьян, страдающих от невыносимой нищеты (дворянство уже давно приняло католицизм и потеряло всякую связь с национальными корнями). Все это, в совокупности с равнодушием австрийской администрации и недоверием со стороны российского правительства, позволяло преобладающим в регионе полякам делать все возможное, чтобы лишить русинов этнического лица. Однако, русины всеми силами противостояли давлению польских панов и мужественно отстаивали свои национальные права. Они ответили категорическим отказом на предложение поляков ввести латинское правописание, старательно очищали свой книжный язык («язычие» – смесь местных говоров с церковнославянским и русским литературным языками) от полонизмов, боролись против навязываемых им католических обрядов в церкви, наконец, на свои собственные (весьма немногочисленные) средства организовали Матицу (культурно-просветительный центр), русский театр и Народный дом.
Весьма симптоматичным в этой связи представился Кельсиеву факт провала в Галичине «украинофильского» движения, выступавшего за максимально широкую (вплоть до полного отделения) автономию Украины. В своем большинстве галичане отказались признать себя «украинцами» и использовать «українську мову» как литературный язык. Они видели себя не иначе как «малорусов» или «южнорусов», особую часть русского этноса, распростершегося «от Карпат и до Камчатки», и тяготели к России, считая ее своей единственной защитницей и благодетельницей, мечтали о воссоединении с ней. Середину 1860-х гг., время пребывания Кельсиева в Галиции можно рассматривать как время триумфа «москвофильства» и почти полного краха украинской идеи.
Все это заставило Кельсиева признать необходимость кардинальных перемен в позиции русских властей и русской общественности относительно галицких русинов. В многочисленных статьях, посвященных проблемам этого края и составивших впоследствии сборник «Галичина и Молдавия», он беспрестанно апеллировал к национальным чувствам образованных россиян, даже и не подозревающих, «как бойко идет здесь русская жизнь, какие у нее радости и надежды, и какие у нее горе и беды» [26], сетовал, что его соотечественники предпочитают Галичине Париж и Ниццу, недоумевал, почему во Львове до сих пор нет русского консула, а компетентность консула в Черновцах более чем сомнительна. Не мог он принять и недоверие, с которым Святейший Синод и вообще правительство относились к униатам. Эти люди были вынуждены подчиниться Папе, все их заветные мечты состоят в том, чтобы присоединиться к России и вновь стать православными, а Россия отказывается помочь им в строительстве церквей, наказывает православных священников за связи с ними, вообще всеми силами старается оградить общество от любой информации об унии. «С униатами, невинными орудиями Рима, только одна политика возможна – политика всезабвения и всепрощения. Поможем им в чем возможно; христианская любовь сильнее всяких лжеучений», – писал Кельсиев [27].
Нельзя сказать, чтобы российская администрация не удостоила вниманием суждения, высказанные Кельсиевым. Вскоре по прочтении «Исповеди» царь указал своим министрам на затронутые в ней проблемы. Каждому было предписано составить «подробные соображения» по той из них, которая входила в его компетенцию, в том числе министру иностранных дел – принять меры к усилению нашего влияния за границей, а шефу корпуса жандармов – создать сеть тайных заграничных агентов [28]. Сам Кельсиев также предпринимал активные шаги к воплощению своих идей в жизнь. Едва получив помилование и освободившись из-под ареста, он добился аудиенции у кн. А.М. Горчакова и «очень настаивал <…> на учреждении русского консульства во Львове». В ответ на возражение князя, что такой проект потребует значительных затрат, Кельсиев решительно заявил, что « даст денег (курсив мой – К.С. )» [29], хотя у самого тогда не было даже средств обеспечить себя жильем. Вообще, в первые недели жизни на свободе он рассчитывал «получить какое-либо поручение, секретное, от правительства в придунайские страны или, что еще более хотелось бы ему, в Галицию, устраивать там связи, отношения, противодействовать полякам» [30]. Затем он предложил свою помощь в одном весьма щекотливом вопросе в отношениях с Сербией. От России требовали выдачи двух человек, подозревавшихся в подготовке убийства сербского князя Михаила III Обрено-вича. Желая предотвратить большой дипломатический скандал, угрожавший авторитету России, Кельсиев в письме одному высокопоставленному чиновнику просил его дать «несколько дней времени», за которые он мог бы получить всю информацию по интересующему вопросу. С тоном влиятельного специалиста он заявил: «Я Вам все разузнаю. Не приступайте ни к чему решительно, покуда я имею средства узнавать » [31]. Пытался Кельсиев провести свои взгляды в жизнь и на общественном поприще, устраивая благотворительные вечера в пользу славян [32].
Однако интерес к Кельсиеву довольно быстро выветрился, а доверия он снискать так и не смог. Большая часть его замыслов так и осталась на бумаге, хотя первоначально к ним относились как будто бы «благосклонно». Эта ситуация объяснялась целым рядом причин. Во-первых, прави- тельство боялось испортить и без того плохие отношения с Австро-Венгрией и не рискнуло отправить туда Кельсиева своим агентом, тем более что его уже высылали оттуда в этом качестве (что же касается консульства во Львове, то оно появилось там лишь в конце столетия). Кроме того, возлагать важные административные обязанности на человека, который представлял в прошлом значительную угрозу для самодержавия, открыто призывая народ к бунту, хотя впоследствии и раскаялся в прежних своих грехах, с точки зрения правительства вообще было слишком рискованно. Это доставляло Кельсиеву серьезный дискомфорт, он все больше приходил к неутешительному для себя выводу, что прилагаемые им усилия оказываются напрасными, и что государство, которому он так страстно желал принести пользу, в сущности, не испытывает в нем необходимости. Между тем, в его рассуждениях действительно содержится немало ценных мыслей, следуя которым, российская дипломатия смогла бы избежать многих трудностей и проблем, выпадавших на ее долю.
Ссылки:
-
1. См.: Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1928; Манфред А.З. Образование русско-
французского союза. М., 1975.
-
2. См.: Фортунатов П.К. Война 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1950; Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877–1878 г. и освобождение Болгарии. М., 1978; Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя А.М. Горчакова. М., 2005; Его же. Двуглавый российский орел на Балканах, 1683–1914. М., 2010.
-
3. Горяинов В.А. Босфор и Дарданеллы. М., 1907; Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало ХХ в. М., 1978; Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России (60–90-е гг. XIX в.). М., 1965; Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Барнаул, 2003.
-
4. К немногочисленным исключениям можно отнести такие исследования, как, например: Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. М., 1960; Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. М., 1977; Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993.
-
5. Машкин М.Н. Пьер Ренувен (1893–1974) // Французский ежегодник. 1976. М., 1978.
-
6. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996.
-
7. Кельсиев В.И. Путешествие по Галичине // Голос. Львов, 1866. № 276. 6 (18) окт.; № 278. 8 (20) окт.
-
8. Там же.
-
9. Кельсиев В.И. Исповедь // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42.
-
10. Кельсиев В.И. Путешествие по Галичине. Хлопы // Голос. 1866. № 333. 2 (14) дек.
-
11. Кельсиев В.И. Пережитое и передуманное. СПб., 1868.
-
12. Кельсиев В.И. Исповедь … С. 357.
-
13. Там же.
-
14. Кельсиев В.И. Письма из Австрии // Голос. 1866. № 190. 12 (24) июля; № 218. 9 (21) авг.
-
15. Кельсиев В.И. Исповедь … С. 375–376.
-
16. Там же. С. 406.
-
17. Кельсиев В.И. Письма из Австрии … № 218.
-
18. Венедиктов В.Ю. Россия и Константинопольский патриархат: этноконфессиональный диалог второй половины XIX в. // Вопросы культурологии. 2008. № 1. С. 20–23.
-
19. Кельсиев В.И. Исповедь … С. 363.
-
20. Кельсиев В.И. Письма из Австрии … № 218.
-
21. Кельсиев В.И. Исповедь … С. 365–366.
-
22. Кельсиев В.И. Обличитель прошлого века // Всемирный труд. 1868. № 10. С. 176–211.
-
23. Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. 2-е изд., доп. М., 2007.
-
24. Кельсиев В.И. Исповедь … С. 402.
-
25. Кельсиев В.И. Письма из Австрии … № 190.
-
26. Кельсиев В.И. Путешествие по Галичине … № 278.
-
27. Там же.
-
28. ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 411. Л. 215–216 об.
-
29. ОР РГБ. Ф. 120. Ед. хр. 7.31. Л. 89 об.
-
30. Там же. Л. 89.
-
31. ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 402. Л. 1 об. – 2.
-
32. ОР РГБ. Ф. 93/II. Ед. хр. 5.66. Л. 1.