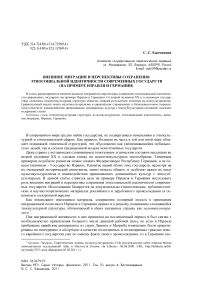Внешние миграции и перспективы сохранения этносоциальной идентичности современных государств (на примере Израиля и Германии)
Автор: Ежеменцев Сергей Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние внешних миграций на перспективы сохранения этносоциальной идентичности современных государств (на примере Израиля и Германии). Со второй половины XX в. в указанных государствах сложилась полиэтнокультурная структура обществ, ставшая результатом политики мультикультурализма. Сравнительный анализ опыта мультикультурализма в европейском (германском) и ближневосточном (израильском) контексте, взаимодействия принимающих доминантных культур с этносубкультурами составляет основное содержание статьи
Полиэтнокультурная структура, мультикультурализм, этносоциальная идентичность, внешние миграции, израиль, германия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737490
IDR: 14737490 | УДК: 314.7(430)+314.7(569.4);
Текст научной статьи Внешние миграции и перспективы сохранения этносоциальной идентичности современных государств (на примере Израиля и Германии)
В современном мире трудно найти государства, не подвергшиеся изменениям в этнокультурной и этносоциальной сферах. Как правило, большая их часть в той или иной мере обладает подвижной этнической структурой, что обусловлено как увеличивающейся мобильностью людей, так и сломом традиционной модели моноэтничных государств.
Даже страны с исторически сложившимся гомогенным этническим составом населения во второй половине XX в. сделали ставку на полиэтнокультурное многообразие. Типичным примером подобного развития можно назвать Федеративную Республику Германия, и не совсем типичным – Государство Израиль. Развитие наций обоих этих государств, несмотря на их очевидный исторический антагонизм, имеет немало общего, и особенно важен их опыт мультикультурализма и взаимодействия принимающих доминантных культур с этносуб -культурами. В данной статье ставится цель на примере Израиля и Германии исследовать роль внешних миграций и перспективы сохранения этносоциальной идентичности современных государств. Исследование базируется на документально-статистических, публицистических и научно-теоретических материалах российского и зарубежного происхождения (в основном в электронной версии).
Как показывают имеющиеся матералы, совершенно полярный подход к принципам миграционной политики в Израиле и Германии привел и к разному пониманию сложившейся этнокультурной структуры, обозначаемой в обеих указанных странах как мультикультура -лизм 1.
Пик миграционной активности в них пришелся на послевоенный период и был связан с необходимостью привлечения большого числа дешевой рабочей силы, но если в Израиле прибывшие еврейские репатрианты из стран Леванта и Магриба изначально были ориентированы на интеграцию и абсорбцию в качестве полноценных и полноправных граждан нового еврейского государства уже по самому факту своего происхождения, то в Германии сло- жилась несколько иная ситуация. Здесь волны иммиграции рассматривались исключительно через призму практических нужд государства, как временное явление, лишенное какого-либо идеологического подтекста. Привлечение этнических немцев не могло стать неиссякаемым источником рабочей силы, на которую рассчитывали власти Германии – рабочие руки были остро необходимы для развивающейся экономики разрушенной страны. Выходом стало приглашение так называемых гастарбайтеров, т. е. гостящих работников, которые должны были выполнять исключительно трудовые функции и стать временным явлением. В этом случае ни о какой интеграции и абсорбции не было и речи, но обозначились стихийные тенденции развития трудовой миграции: если европейские рабочие (югославы, итальянцы, испанцы, португальцы) через некоторое время возвращались на родину, то турки предпочитали оставаться в Германии в качестве резидентов. Принимающая сторона не требовала от них превращения в немцев, а точнее, вовсе не желала этого, однако постепенно турецкие трудовые мигранты стали добиваться де-факто национально-культурной автономии. Власти же Германии ожидали от них прежде всего лояльности по отношению к государству, предоставившему временное проживание, хотя в дальнейшем – и право на натурализацию. Итогом такой политики по отношению к инокультурным анклавам стала самоизоляция значительной части немецкого общества, отрицающего общеевропейские ценности. Разумеется, такая же автономность сохранилась и в среде приезжих – так, согласно данным министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, от 10 до 15 % мигрантов в Германии открыто отказываются интегрироваться в немецкий социум, а результаты социологического исследования 2, проведенного по заказу германского правительства, показывают, что каждый четвертый турок в Германии не знает немецкого языка, а каждый второй практически не общается с немцами, а это уже добровольная сегрегация. Еще одной причиной столь слабой интегрированности национальных меньшинств в Германии стали гомогенность и устойчивые традиции самой немецкой культуры, не ориентированной на включение инокультурных анклавов и, в принципе, не имеющей такого опыта.
В будущем все более значительную роль в интеграции немецких граждан турецкого происхождения с коренным населением может играть и сама Турция, заинтересованная в сохранении этнической идентичности турецкой общины Германии 3, – эта растущая и укрепляющая свое влияние община может стать важным актором двусторонних межгосударственных отношений. Более того, Турция в довольно ультимативной форме потребовала от федеральных властей Германии создания социальных институтов, способствующих формированию двойной лояльности или даже превалирования этнических маркеров над национальными 4.
Показательным примером желания законсервировать идентичность своих соотечественников может служить речь турецкого премьера, посетившего место пожара в жилом доме в Людвигсхафене, в результате которого погибли девять выходцев из Турции. Он предостерег обосновавшихся в ФРГ турок от ассимиляции, которую назвал «преступлением перед человечеством», и утраты родного языка, национальных традиций и менталитета, и призвал к сохранению индивидуальности и культуры 5.
Подобная практика и подход в целом несли в себе немалые противоречия, которые не замедлили вылиться в системный кризис. Суть его в следующем: без должного давления со стороны доминантной принимающей культуры новые граждане, независимо от их этнической принадлежности, в массе своей не станут интегрироваться в принимающем этническом пространстве, что порождает феномен добровольного гетто. Неудачи и нереализованные амбиции мигрантов адресуются, как правило, все тому же принимающему большинству. Получается, что «плавильный котел» по ряду причин для Германии не актуален, а решить проблему инонациональных анклавов более радикальными методами и в необходимых масштабах не позволит этика европейского гуманизма, хотя прецеденты такого рода есть. Перед немецким государством на рубеже XX–XXI вв. встал вопрос о целесообразности продолжения политики мультикультурализма, в том виде, в каком она проводится ныне, – ведь уже сейчас такие действия не позволяют достичь убедительных результатов. Об этом недавно заявила канцлер Германии Ангела Меркель 6, – ее выступление стало своеобразным манифестом за сохранение немецкой идентичности.
В Израиле подобная же ситуация выразилась в неприятии представителями доминантной ивритской культуры новых волн репатриации, таких как эфиопская и индийская, и требований пересмотра Закона о возвращении 7, с одной стороны, и формирования движения «черных пантер», полного неприятия национальных мифологем и самоизоляции – с другой. Но есть и коренное отличие израильской ситуации: так называемый Черный и Белый Израиль, сложившиеся как результат массовой миграции восточных евреев в 50-х гг. XX в., сходились в одном – все эти субэтнические группы или эды так или иначе, но признают свое общее еврейское происхождение.
Но обращаясь к опыту Израиля, следует указать на немалые трудности интеграции различных групп еврейского этноса. Представления сионистских руководителей о еврейском характере нового государства столкнулись с неоднозначностью самого видения еврейства в целом и его ролью в новом обществе. Кроме того, и сами репатрианты столкнулись с кризисом ожиданий, культурным и идеологическим. Начать стоит с того, что большинство израильтян не родились в самом Израиле, а прибыли сюда достаточно зрелыми и зачастую вполне успешными людьми с устоявшимися мировоззренческими идеалами. Как следствие этого, их представления о национальном очаге не согласовывались с израильской действительностью 8. Многих насторожил «полутеократический» характер государства, другие с осуждением отнеслись к отходу от библейских ценностей и нарочито формальному выполнению религиозных норм. И все же, несмотря на разный исторический опыт и различное отношение к «израильской идее», новым репатриантам приходилось адаптироваться к неким общим знаменателям, обязательным для всех израильтян. Эти универсальные культурно-общественные коды, зачастую основанные лишь на формальном признании символов иудаизма, и стали тем цементирующим раствором, скрепившем новую нацию. Интересным представляется и тот факт, что в отличие от Германии, где удельный вес граждан, родившихся в стране, несравнимо выше, в Израиле репатрианты вынуждены приобщаться к общенациональным ценностям. Мультикультурализм не смог разрешить большинство насущных проблем израильского общества, так как не отвечал официально декларируемому еврейскому характеру государства, – большинство репатриантов уже изначально являются евреями, они отчасти соблюдают или хотя бы имеют представление о религиозной традиции и признают сакральное значение Палестины в жизни мирового еврейства, (исключение – репатрианты из бывшего СССР). Это обстоятельство несколько сглаживает этнокультурные противоречия и позволяет большинству иммигрантов уже через 10–15 лет самоидентифицировать себя как израильтян 9. Хотя эти новые израильтяне де-факто сохраняют социокультурные коды стран исхода, предполагается, что в обозримой перспективе они все же пройдут процесс культурной, нормативной и ценностной ассимиляции. Этому будут способствовать авторитетные и социальные институты абсорбции и интеграции: школы, армия, вузы, религиозные учрежде- ния, а также общее для всех израильтян осознание своей отчужденности в окружающем арабском мире.
В Израиле иммиграция априори воспринималась как возвращение потерянных «колен» на родину и, соответственно, приобрела сакральный характер, что даже вошло в официальный документооборот. Алия-репатриация – это подъем, возвышающий как морально, так и физически, и это не оговорка. Еврей на святой земле должен был стать крепче и упорным физическим трудом приобрести крепость тела и духа. Кроме того, и уровень мотивации первых репатриантов был чрезвычайно высок – большинство из них приезжало в бесплодную страну, окруженную враждебным арабским населением не в поисках богатства, а исходя из идейных соображений. Соответственно, никто и не смел ставить под сомнение лояльность новых граждан к государству, так как те, в свою очередь, изначально позиционировали себя как евреи. В Декларации Независимости Израиля был закреплен именно еврейский национальный характер государства – сохраняя и даже акцентируя свое этническое происхождение, представители этнокультурных групп не отрицают общую со всеми историческую судьбу. Культурное наследие субэтнических групп, которое не могло раствориться в израильской «монокультуре», становится частью общеизраильских ценностей
В ФРГ же, где изначально государство не стало претендовать на культурные права этнои-золятов, сложилась несколько иная система, при которой иммигранты оказались ничем не связаны с доминирующей культурой, и уровень их интегрированности зависел исключительно от степени их мотивации, в лучшем случае – декларативной солидарности с местными государственными символами. Приоритетной становится реализация внутри общины, которая, в свою очередь, может взять на себя роль посредника между государством и гражданином – точек соприкосновения становится еще меньше.
Встает вопрос о необходимости прекращения или существенном ограничении въезда в страну. Но в сложившихся условиях страны-реципиенты, каковыми являются и Израиль, и Германия, находятся в определенной зависимости от постоянного притока низкооплачиваемой и малоквалицифированной рабочей силы из стран-доноров. В ФРГ привлечение неква-лицифированных рабочих позволило этническим немцам занять нишу офисных служащих, от которой они не желают отказываться, а в Израиле это означало бы крах всей национальной идеи, полную дезориентацию и утерю национальной самобытности, т. е. обе страны по-прежнему крайне заинтересованы в привлечении новых мигрантов.
В итоге складывается следующая картина: в ФРГ есть этническое ядро нации, позиционирующее себя с историей и будущим этой страны, и есть меньшинство, не желающее мирится с сложившейся действительностью, и не считающее при этом возможным идти на уступки доминантной культуре. Инертность принимающей культуры по отношению к инонациональным анклавам воспринимается последними как духовно-культурный вакуум, – местные, по мнению мигрантов, не имеют морально-исторического права на лидерство и, соответственно, сами должны меняться в условиях полиэтнокультурного многообразия. Что немаловажно, меньшинство постоянно увеличивается численно, и это еще один аспект проблемы, наряду с самоизоляцией.
Но в случае с Израилем наблюдается относительный паритет – субэтнические группы готовы принять и принимают базовые требования принимающей стороны, которая при этом дает им возможность реализоваться в рамках общей идентичности. Такое развитие стало возможным благодаря целенаправленной политике абсорбции, проводимой израильской элитой в отношении новых граждан страны.
Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на схожие проблемы и задачи, а именно – сохранение национального характера государства – их решения будут в значительной мере отличаться в контексте германского и израильского опыта. Сейчас перед обоими государствами особенно остро встала задача сохранения национального характера, но если для ФРГ это означает сокращение или пересмотр масштабов миграционных потоков, то для Израиля, конечная цель которого собрать всех евреев в Эрец - Исраэль, прекращение репатриации фактически будет означать потерю национального еврейского характера. В условиях подъема политической активности на Арабском Востоке, происшедшего в начале 2011 г. (Тунис, Египет и пр.), эта тенденция стала бы угрозой самого существования еврейской государственности, недопустимой как для Израиля, так и многочисленной диаспоры. Это обстоятельство позволяет говорить о национально-государственных и территориально-географических альтернативах решения проблем этносоциальной идентичности в новых условиях XXI в.
Материал поступил в редколлегию 12.01.2011
Sergey S. Ezhementsev
EXTERNAL MIGRATION AND THE PROSPECTS FOR PRESERVING ETHNO-SOCIAL IDENTITY OF MODERN STATES (ISRAEL AND GERMANY CASES)