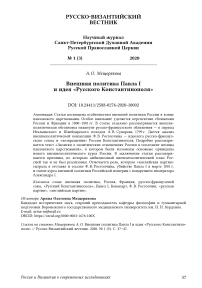Внешняя политика Павла I и идея "русского Константинополя"
Автор: Мещерякова Арина Олеговна
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Россия и Византия в современных исследованиях
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям внешней политики России в конце павловского царствования. Особое внимание уделяется перспективе сближения России и Франции в 1800-1801 гг. В статье отдельно рассматривается внешнеполитическая обстановка накануне русско-французского сближения - в период Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова 1799 г. Дается анализ внешнеполитической концепции Ф. В. Ростопчина - идеолога русско-французского союза и «возвращения» России Константинополя. Подробно рассматривается текст «Записки о политических отношениях России в последние месяцы павловского царствования», в котором были изложены основные принципы нового внешнеполитического курса России. В заключение статьи рассматриваются причины, по которым амбициозный внешнеполитический план Россией так и не был реализован. Отмечается роль, которую «английская партия» сыграла в отставке и ссылке Ф. В. Ростопчина, убийстве Павла I в марте 1801 г. и смене курса внешней политики Российской империи с воцарением императора Александра I.
Внешняя политика, Россия, франция, русско-французский союз, "русский константинополь", павел i, бонапарт, ф. в. ростопчин, "русская партия", "английская партия"
Короткий адрес: https://sciup.org/140294115
IDR: 140294115 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10002
Текст научной статьи Внешняя политика Павла I и идея "русского Константинополя"
Давняя мечта русских монархов о «возвращении» Константинополя приобрела в XVIII столетии особую актуальность и остроту. Начиная с Азовского и Прутского походов Петра I, русско-турецкой кампании 1735–1739 гг. при Анне Иоанновне, знаменитого «греческого проекта» Екатерины II1 и заканчивая проектом мирного раздела Османской империи, разработанным в конце павловского царствования, все эти грандиозные внешнеполитические планы не только видоизменялись, наполняясь новым содержанием, но и демонстрировали определенную преемственность.
Последний амбициозный внешнеполитический проект XVIII столетия, реализация которого сулила Павлу I соединить воедино «престолы Петра и Константина»2, был связан с именем графа Федора Васильевича Ростопчина, первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел России (1799–1801) 3 .
Именно его как современники, так и потомки считали главным «виновником» резкого изменения внешнеполитического курса России в конце царствования
Павла I, этого, по словам А. А. Кизеветтера, «безрассудного дипломатического сальто-мортале»4. На протяжении почти всего павловского царствования Ростопчин находился в фаворе у императора и являлся, по отзывам современников, деятелем так называемой «русской партии», ставившей во главу угла приоритет национальных интересов во всех сферах государственной жизни Российской империи. Особенно явно апелляция к этому принципу проявилась во внешней политике России 1799–1801 гг. Именно со вступлением Ростопчина в должность первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел в сентябре 1799 г. внимательные наблюдатели5 связывали начало нового внешнеполитического курса России, в основу которого легла идея русско-французского союза. При этом именно влиянием Ростопчина на Павла I объяснялась кардинальная перемена во внешнеполитических ориентирах России конца XVIII столетия. Во всяком случае, уже в ноябре 1799 г. английской посланник при русском дворе лорд Ч. Уитворт, отмечая «роковую» пере-

Портрет Ф. В. Ростопчина. Худ. С. Тончи, 1800 г.
мену в мыслях и намерениях императора
Павла, связывал ее исключительно с влиянием Ростопчина6. Также и А. Чарторижский в своих воспоминаниях отмечал, что «вся честь нового союза и его первых успехов» тогда всецело приписывались Ростопчину, которого по своей значимости в международных делах ставили рядом с английским премьер-министром У. Питтом Младшим, как реального вершителя судеб Европы7.
Идея русско-французского союза, всецело захватившая Павла в конце его царствования, явилась частью целостной внешнеполитической концепции Ростопчина. Внимательно следившие за русской внешней политикой того времени баварский дипломат граф Ф.-Г. де Брэ и лорд Ч. Уитворт давали по существу схожие характеристики политических взглядов первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел Российской империи. Так, по наблюдению де Брэ, политика Ростопчина основывалась на положении, в соответствии с которым «России нет никакой надобности вмешиваться в дела Европы и... ей достаточно одного — внушать своим соседям страх»8. Как отмечал в свою очередь Ч. Уитворт, Ростопчин придерживался тогда мысли, будто «Россия может с полной безопасностью изолироваться и созерцать падение других правительств, не опасаясь себе подобной участи»9. Приведенные выше слова довольно точно отражают суть внешнеполитической концепции Российской империи последних лет павловского царствования, основанной на идеях самодостаточности России и ее независимости от Европы. Можно утверждать, что за пятьдесят с лишним лет до Н. Я. Данилевского Ростопчин сформулировал положения той концепции внешней политики России, которая была теоретически подробно разработана в знаменитом трактате «Россия и Европа». Более того, Ростопчин, будучи главой внешнеполитического ведомства, имел уникальную возможность воплотить положения своей концепции в жизнь. (Весьма примечательно, что сам Н. Я. Данилевский в качестве эпиграфа к главе, посвященной внешней политике России, взял цитату из программной записки Ростопчина10.)
Находясь в должности первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел, Ростопчин по просьбе императора подготовил известную в исторической литературе «Записку о политических отношениях России в последние месяцы павловского царствования»11. В этом меморандуме провозглашался новый курс во внешней политике, которому Российская империя следовала с момента высочайшей конфирмации документа (2 октября 1800 г.) до гибели Павла I. Суть нового внешнеполитического курса заключалась в установлении союзнических отношений с Францией в противовес традиционной ориентации России на Англию и Австрию. Фактически же Ростопчин стремился перевести внешнюю политику Российской империи из области общеевропейских приоритетов в область ее национальных интересов. Как считал сам Ростопчин, цель его записки заключалась в указании императору на некие «удобные способы» защиты Российской империи от «завистников ее славы и могущества», поскольку, как он полагал, практически все европейские державы если не явно, то «скрытно» враждебны ей12. Природу европейской русофобии он рассматривал в буквальном смысле этого понятия. По его мнению, Россия с ее исключительным положением и «неистощимою силой», имеет объективные предпосылки быть «первой державой мира», что, вызывая «зависть и злобу» прочих держав, толкает их на враждебные против нее действия13. Поэтому России, по мнению Ростопчина, нужно «недремлющим оком иметь надзор над всеми движениями и связями государей сильных в Европе, дабы они сами собою или содействием подвластных держав не предприняли чего-нибудь предосудительного величию России»14.
На появление идеи русско-французского союза повлияло два немаловажных обстоятельства: обострение противоречий внутри второй коалиции и перемена правления во Франции. В результате последней на Бонапарта в Петербурге стали смотреть как на царя «без титла», по выражению Ростопчина15. В ходе военных действий и прежде всего во время легендарных походов А. В. Суворова стала очевидной крайне непривлекательная сущность союзников России. В то время как Павел I, возглавивший коалицию, преследовал исключительно идеалистические цели, демонстрируя свое рыцарское бескорыстие, его союзники решали каждый свои, «большей частью экспансионистские задачи»16. О резких противоречиях внутри коалиции, которой

Портрет графа Александра Суворова. Худ. Йозеф Крейцингер, 1799 г.
«по огромному разногласию интересов» суждено было развалиться, из армии писал Ростопчину А. В. Суворов17.
По всей видимости, именно активная и весьма откровенная переписка Ростопчина с великим полководцем, искавшим у него поддержку в своих столкновениях с «неверными союзниками»18, и повлияла на формирование идеи русско-французского союза и в целом на складывание внешнеполитической концепции России конца павловского царствования. В письмах Ростопчину Суворов приводил многочисленные факты проявления союзниками откровенного недоброжелательства по отношению к России. Так, находясь под впечатлением от донесений полководца, Ростопчин писал своему другу и давнему корреспонденту, русскому посланнику в Лондоне графу С. Р. Воронцову следующее: «Горе тому, кто положится на Венский двор! Фельдмаршал Суворов прислал бумаги, удостоверяющие, что этот безмозглый Мелас, не спросясь своего начальника, отослал во Францию французских пленных и дал им наставления, как пройти, чтобы не попасть в руки русских разбойников (курсив мой. — А. М. ). Таковы его собственные слова. Вот увидите, — продолжал он, — что как только уйдут наши войска, этих негодных австрийцев поколотят в Италии, и весь великолепный поход выйдет лишь бесполезным пожертвованием на доброе дело»19. Вскоре это предположение Ростопчин зафиксировал в своей политической записке, но уже в виде свершившегося факта20.
По мнению Ростопчина, единственным результатом бесполезной для России войны явилось то, что она порвала почти все свои союзнические отношения с другими странами. Этому он придавал особое значение, считая, что «России с прочими ствования. С. 92.

Портрет С. Р. Воронцова. Худ. Т. Лоуренс, около 1807 г.
державами не должно иметь иных связей, кроме торговых», так как, следуя союзническим обязательствам, она почти всегда действовала в ущерб собственным интересам21. Следует подчеркнуть, что мысль Ростопчина о неприемлемости для России союзнических отношений в их привычном понимании не противоречила его идее русско-французского союза. Он считал, что быстро меняющиеся обстоятельства в международных делах «могут рождать и новые сношения, и новые связи», которые, однако, должны иметь характер временный и случайный, исключающий какие-либо обязательства22. Собственно с этих же позиций Ростопчин рассматривал и союз с Францией. Он не рассчитывал на его долговечность и прочность. Этот союз был выгоден России в конкретный исторический момент. Положение дел в Европе тогда находилось в том состоянии, которым, по его мнению, «можно было отлично воспользоваться для обуздания страшного самовластия Англии»23. С другой стороны, являясь «истинным врагом» антифранцузской коалиции24, он понимал, что в случае ее успеха побежденная и раздробленная Франция не сможет в интересах России сдерживать другие европейские государства. Только сильная и независимая Франция, имея достаточный вес на мировой арене, способна служить уздою для Англии и еще для двух «завистниц» Российской империи, расположенных непосредственно у ее границ — Австрии и Пруссии25.
Агрессивная внешняя политика Англии являлась объектом особой критики Ростопчина. Даже в переписке со своим другом — известным англоманом графом С. Р. Воронцовым — Ростопчин не без раздражения указывал на недопустимое усиление английского могущества.
Глава русской внешней политики полагал, что из войны Англия выйдет вдвое богаче прежнего, а это позволит ей с еще большим успехом «возжигать в Европе новые войны и платить деньгами за людей, которые будут гибнуть для ее выгод»26. Можно сказать, что идея русско-французского союза основывалась, прежде всего, на его крайнем неприятии принципов английской политики, которые он, по его собственному признанию, «ненавидел»27. Таким образом, делая ставку на Францию в качестве временного союзника Российской империи, Ростопчин всего лишь выбирал из двух зол меньшее, которым в то время являлась Франция, возглавляемая пришедшим к власти в результате ноябрьского переворота Бонапартом. Последний был не менее заинтересован во взаимовыгодном союзе двух великих держав, рассчитывая использовать Россию в борьбе с Англией. В своих обоснованиях идеи русско-французского союза и Ростопчин, и Бонапарт ссылались на географическое положение России и Франции и отсутствие территориальных противоречий между этими государствами28. Так, в разговоре с русским генералом Г. М. Спренгпортеном в конце 1800 г. Бонапарт высказал мысль о том, что «Россия и Франция, по самому географическому положению своему предназначены к тому, чтобы жить в тесной между собою связи и держать в узде всю остальную Европу»29.
Одним из наиболее впечатляющих моментов внешнеполитического меморандума Ростопчина являлся проект раздела владений Османской империи. Это был своеобразный план решения восточного вопроса без участия Англии, традиционно считавшей этот регион сферой своих интересов. Активным участником в реализации этого плана, его двигателем, предполагалось сделать Бонапарта, поскольку как ни для кого другого намеченный раздел был выгоден для Франции. Во-первых, таким образом можно было унизить Великобританию, а во-вторых, утвердить Францией все сделанные ею ранее завоевания30.
Вполне возможно, что саму идею раздела владений Турции Ростопчину мог «под-

Портрет Павла I.
Худ. С. Щукин, 1799 г.
сказать» его непосредственный начальник по Коллегии иностранных дел канцлер А. А. Безбородко. Он возглавлял это ведомство при Павле I с 1797 по 1799 г. Известно, что именно А. А. Безбородко наряду с Г. А. Потемкиным принимал активное участие в разработке плана «греческого проекта» Екатерины II и подготовке соответствующего меморандума 1782 г. Впервые же саму идею раздела турецких владений он высказал несколькими годами ранее31.
Раздел Порты Оттоманской, являвшейся, по выражению Ростопчина, «безнадежным больным»32, предполагалось осуществить между Россией, Пруссией, Австрией и Францией. К Российской империи должны были отойти Румыния, Болгария и Молдавия. Австрия получала бы Боснию, Сербию и Валахию; Пруссия — земли северной Германии. Франция в ходе реализации должна была приобрести Египет33. Ростопчин полагал, что в интересах России будет, если Египет достанется Франции, а не Англии, именно потому, что обладание Египтом и Мальтой сосредоточит в руках Англии не только всю торговлю по Средиземному и Красному морям, но и позволит ей контролировать территорию региона34. Грецию с прилежащими островами предполагалось объявить республикой под защитой всех четырех держав, «а по времени, — писал он, — греки и сами подойдут под скипетр Россий-ский»35. Ростопчин считал, что «успех сего важного, но легкого к исполнению предприятия зависит от тайны и скорости»36. При этом особые надежды в проведении в жизнь столь грандиозного по замыслу плана он опять же возлагал на взаимовыгодное сотрудничество России и Франции. Ростопчин считал, что в случае реализации этого проекта «Россия и XIX век» будут гордиться царствованием Павла I, соединившего «престолы Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй света»37. Таким образом заветная мечта русских государей о Константинополе могла воплотиться в начале XIX столетия.
В конфирмованном Павлом I 2 октября 1800 г. документе давались конкретные рекомендации к воплощению внешнеполитического проекта в жизнь. Считая себя наиболее подходящей кандидатурой для тайной

Наполеон Бонапарт. Худ. А. Аппиани, 1800 г.
дипломатической миссии в Париже, он готов был немедленно отправиться во Францию с полномочиями для заключения союза с Бонапартом38. Однако в Париж, по распоряжению Павла I, отправился генерал Г. М. Спренгпортен, профранцузски настроенный, но не обладающий необходимыми для заключения союза полномочиями. В итоге, уполномоченным для ведения переговоров в Париж был отправлен последовательный сторонник «партии войны» и коалиции С. А. Колычев39. Будучи открытым противником русско-французского союза, он не мог способствовать успешному воплощению в жизнь внешнеполитического проекта Ростопчина. Послания Колычева из Парижа к главе внешнеполитического ведомства были наполнены крайним пессимизмом в оценке перспектив русско-французского союза40. В результате, первые шаги к оформлению союза с Францией не были удачными, в том числе из-за явного саботажа со стороны российского уполномоченного.
Другим и более успешным шагом в реализации нового внешнеполитического курса было подписание при участии Ростопчина конвенции о вооруженном нейтралитете между Россией, Швецией, Данией и Пруссией (декабрь 1800 г.). Таким образом, была создана Северная морская лига. Как и вся внешняя политика России данного периода, это соглашение было направлено против Англии, в данном случае — на подрыв ее морской гегемонии. Реакция Британского кабинета не замедлила проявить себя. На суда участниц альянса было наложено эмбарго. Политическая ситуация оказалась «взрывоопасной»41.
Еще одной действенной мерой, которая преследовала цель поколебать английское могущество, была организация и начало легендарного Индийского похода. И Павел I, и Наполеон Бонапарт возлагали большие надежды на совместную экспедицию.
Бонапарт даже разработал и отправил российскому императору подробный план Индийского похода. Однако Павел I, не дожидаясь окончательных договоренностей с первым консулом, 12 января 1801 г. отправил в направлении Оренбурга 40 казачьих полков во главе с атаманом войска Донского В. П. Орловым. Приказ гласил: пройдя через Оренбург, «Бухарию и Хиву выступить на реку Индус» с тем, чтобы «поразить неприятеля в его сердце»42. Перспективам и возможным результатам Индийского похода в свое время дал взвешенную оценку Н. Я. Данилевский. Так, он отметил,

Чарльз Уитворт.
Худ. Иоганн Лампи Старший, после 1789 г.
что «последствия такого похода, предпринятого даже с малыми силами и даже неудачного, были бы самые гибельные для английского могущества», так как они подорвали бы веру англичан в неприкосновенность английской территории. С этих пор угроза похода в Индию подобно дамоклову мечу нависла над Англией43. В последнее время историки все чаще приходят к аналогичным выводам в оценке значения Индийского похода44.
И в России, и в Англии были могущественные противники русско-французского сближения и реализации совместных внешнеполитических проектов. Наиболее видными и влиятельными из них являлись: лорд Ч. Уитворт, английский посланник при русском дворе (высланный из России в 1800 г.), его близкая подруга, сестра опального П. А. Зубова, О. А. Жеребцова, русский посол в Англии граф С. Р. Воронцов, генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф П. А. Пален, вице-канцлер граф Н. П. Панин. Они представляли собой так называемую «английскую партию», главным результатом деятельности которой стало убийство Павла I в марте 1801 г. Небезынтересно, что постоянный корреспондент Ростопчина граф С. Р. Воронцов являлся едва ли не главным теоретиком англофильства и проводником английских интересов в России.
Лорд Ч. Уитворт, к примеру, был абсолютно уверен тогда в том, что русский посол является единомышленником английского правительства45, и прямо называл и его, и Панина «англичанами»46.
Борьба между Ростопчиным и Паниным олицетворяла собой противостояние при дворе двух партий — «русской» и «английской». Ловкая интрига представителей английской партии привела к отставке Ростопчина со всех постов 20 февраля
1801 г.47 Отставка лично преданного императору вельможи и его последовавший отъезд из столицы не только означали устранение ключевой фигуры на пути заговорщиков, но и крах грандиозных планов русско-французского сотрудничества и, наконец, кардинальную смену внешнеполитического курса России. Пожалуй, никогда так близко Россия не стояла перед возможностью «вернуть» Константинополь, но, как и прежде, многовековая русская мечта водрузить крест над Святой Софией так и не стала реальностью.