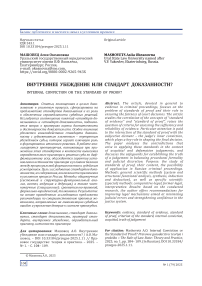Внутреннее убеждение или стандарт доказанности?
Автор: Машовец А.О.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Баланс публичного и частного начал в уголовном процессе
Статья в выпуске: 1 (79), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья, посвященная в целом доказыванию в уголовном процессе, сфокусирована на проблематике стандартов доказывания и их роли в обеспечении справедливости судебных решений. Исследуется соотношение понятий «стандарт доказывания» и «стандарт доказанности», поднимается вопрос о критериях оценки достаточности и достоверности доказательств. Особое внимание уделяется взаимодействию стандарта доказанности с субъективным элементом - внутренним убеждением судьи, которое играет ключевую роль в формировании итогового решения. В работе анализируются противоречия, возникающие при применении этих стандартов в контексте вынесения оправдательного приговора и решения суда по диффамационному иску, обсуждаются гарантии установления истинности приговора в условиях баланса между процессуальной формальностью и судейским усмотрением.
Доказывание, стандарт доказывания, стандарт доказанности, критерий стандарта, внутреннее убеждение, оправдательный приговор, истинность приговора
Короткий адрес: https://sciup.org/142245285
IDR: 142245285 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.1.11
Текст научной статьи Внутреннее убеждение или стандарт доказанности?
Научные исследования в области теории доказательств не подвергают сомнению положения, закрепленные в ст. 17 УПК РФ, об оценке доказательств по внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, положениях закона и собственных моральных качествах судьи.
Если внутреннее убеждение – символ теории свободной оценки доказательств – в свое время освободило судью от оков формальной системы оценки, не свидетельствует ли обращение авторов ряда научных исследований и представителей судебной власти к стандартам доказанности о рецепции элементов теории формальных доказательств? И дело вовсе не в формальной системе оценки доказательств, «которая превращалась в "логическую операцию", поскольку сила каждого доказательства была заранее определена в законе и все они делились на "совершенные" и "несовершенные", "полные" и "неполные"» [1, с. 243], а в приписываемом критиками стандартов доказанности низложении внутреннего убеждения судьи при обращении к указанным стандартам. Влечет ли оперирование категорией «стандарты доказанности» объективизацию выводов правоприменителя или же «фактически суды и судьи через подобные решения начинают "творить право"… внедрять в правовую лексику ранее неизвестные термины с непонятным содержанием, что не соответствует принципу определенности права, законности и обоснованности выносимых судебных решений» [2, с. 171]?
Между тем, несмотря на отсутствие легитимного определения стандартов доказанности в праве, обращение судов к указанным стандартам отнюдь не свидетельствует о неопределенности их содержания и различном их понимании.
Соотношение понятий «стандарты доказывания» и «стандарты доказанности»
Из определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ следует: «Доводы кассационной жалобы о том, что занятие высшего положения в преступ- ной иерархии может считаться доказанным лишь при наличии документов... в которых бы утверждалось, что субъект является преступным авторитетом, либо его так называют другие, либо он сам подписывается как криминальный авторитет, отражает отклоняющиеся от требований закона представления стороны защиты о стандартах доказывания1, в то время как согласно ст. 17 УПК РФ ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы и доказательства оцениваются судом по внутреннему убеждению»2.
Упрек стороне защите в неверном представлении о стандарте доказывания очевиден, как очевидно убеждение суда о наличии вытекающего из требований закона обозначенного стандарта. Суд посчитал достигнутым доказательственный стандарт применительно к одному из признаков состава преступления исходя из совокупности приведенных в приговоре доказательств и их оценки по внутреннему убеждению.
Приводит ли такая трактовка выводов суда к пониманию указанного стандарта как достаточности и убедительности доказательств для принятия по делу решения о наличии состава преступления и виновности подсудимого в его совершении?
По мнению П.С. Яни, «стандартизация доказательственной информации под критерий ее достаточности суть естественное стремление правоприменителя к формализации неопределенных категорий, она направлена на сужение сферы его усмотрения, что, конечно, существенно снижает риск признания принятого им решения незаконным и необоснованным» [4, с. 38]. Сомнение, которое он высказывает, заключается в возможности совместить формализацию и нормативный принцип свободы оценки доказательств.
И.Л. Петрухин стандарты доказанности соотносит с достаточностью доказательств:
«Стандарты доказанности обвинения – это вырабатываемые судебной практикой представления о совокупности доказательств, достаточных для вынесения обоснованного обвинительного приговора или другого процессуального акта. Если собранные по конкретному уголовному делу доказательства в их совокупности ниже выработанных практикой стандартов доказанности обвинения, то должен быть вынесен оправдательный приговор. Таким образом, речь идет о достаточности доказательств для постановления обвинительного приговора и его оценки вышестоящими судебными инстанциями» [5, с. 53].
Сведение стандартов доказанности к достаточной совокупности доказательств по уголовному делу не отражает их содержание и может привести к размыванию понятия, смешению с другими уголовно-процессуальными категориями. Стандарты доказанности как максимальный, предельный уровень сомнений в истинности факта, который сочетается с готовностью судьи признавать факт доказанным [6, с. 10], подразумевают элемент достоверности. Как отмечает А.В. Смирнов, «нельзя ставить знак равенства между доказанностью и достоверностью» [7, с. 152].
Р.В. Костенко достижение достоверных выводов связывает «с ситуацией, когда посредством достаточных доказательств представляется возможным охватить все свойства и отношения познаваемых обстоятельств» [8, с. 37]. При этом он, исходя из необходимости четких критериев, позволяющих считать в достаточной степени доказанными те или иные юридические факты, не отрицает объективной потребности в исследовании степеней (стандартов) доказанности фактов, необходимых для обоснования различных видов процессуальных решений, принимаемых в уголовном процессе, и юридических условий их достижения.
В идеале внутреннее убеждение судьи должно базироваться на совокупности исследованных судом достоверных доказательств, исключающих разумные сомнения в виновности подсудимого. Стандарт доказанности в большей степени связан с достоверностью доказательств, со степенью внутренней убежденности судьи в доказанности обстоятельств уголовного дела. При отсутствии в законодательстве нормативных критериев оценки до- казательств остается апеллировать к внутреннему убеждению оценивающего субъекта.
Внутреннее убеждение выступает результатом мыслительной деятельности по оценке доказательств, итогом личной оценки судьей исследованных доказательств. Как мыслительная деятельность внутреннее убеждение не поддается внешнему регулированию, является субъективным элементом при вынесении решения по уголовному делу. Свобода оценки, кроме указания на исследованные судом доказательства, ограничивается доказательственными презумпциями, фикциями, исключением недопустимых доказательств, преюдициальной силой судебных актов и др. Указанные факторы не влекут формализацию мыслительного процесса, внутреннее убеждение судьи (влияние на которое, помимо всего прочего, оказывает правосознание судьи, эмоции, чувства, возможная предубежденность и иные субъективные моменты) остается творческим процессом.
Современная теория доказательств, восприняв, по сути, из формальной теории два важнейших аспекта – исчерпывающий перечень источников доказательств и исчерпывающий перечень средств доказывания [1, с. 228], критериев внутреннего убеждения судьи не определяет.
Диалектика развития научного знания не отрицает влияния, а иногда и рецепции прежних доказательственных теорий. Новацию критериев оценки доказательств в процессуальных отраслях права можно рассматривать, по выражению И.Л. Петрухина, «как своеобразное возрождение (теперь уже на строго научной основе) теории формальных доказательств» [5, с. 51]. Плюсы теории формальных доказательств – предвидение траектории судебного разбирательства, нивелирование субъективизма и уменьшение вероятности злоупотребления судьей своими властными полномочиями – могут быть восприняты при обращении к стандартам доказанности как критериям оценки доказательств, устанавливающих обстоятельства уголовного дела.
Обращение к стандартам доказанности не исключает внутреннего убеждения, но «нельзя полагаться только на интуицию, мудрость и разум судьи. Этого недостаточно для искоренения злейших недостатков правосудия: формализма, субъективизма и волюнтаризма…
В юридической плоскости мы привыкли к тому, что доказательства оцениваются судом, исходя из его внутреннего убеждения. Но с точки зрения конституционного права это выглядит противоречиво: оценивая доказательства, судья исходит только из своих убеждений, но не из каких-то объективных правил, т. е. стандартов доказывания…»3.
Потребность в научном обосновании доказательственных стандартов тем очевиднее, чем чаще указанные стандарты (как доказывания, так и доказанности) применяются в судебной практике.
Взаимодействие стандарта доказанности с субъективным элементом – внутренним убеждением правоприменителя
В системе общего права стандарты доказанности объективированы в решениях судов, раскрыты в доктринальных источниках. Применительно к уголовному судопроизводству в Англии действует стандарт «вне разумных сомнений» (beyond reasonable doubt), аналогичный стандарт, подразумевающий наивысшую степень убеждения, применяется в США, он вытекает из требования должной судебной процедуры, закрепленного в Конституции США.
Применяемый в гражданском процессе стандарт «баланс вероятностей» (balance of propabilities) нашел отражение в практике Президиума Суда по интеллектуальным правам. В постановлении об отмене решения суда первой инстанции указано: «…суд первой инстанции в настоящем деле неверно применил стандарт доказывания "вне разумных сомнений", характерный для уголовного права, при том что настоящее дело рассматривается в исковом производстве с учетом баланса ве-роятностей»4. Стандарт «баланс вероятностей» подразумевает более вероятной позицию одной стороны в противовес другой (оспариваемый факт скорее был, чем не был).
Разная степень убежденности, заложенная в стандартах доказанности, определяет разные пороги доказанности (представления доказательств) в уголовном и гражданском процессах, приводя порой к неожиданным результатам. Важно учитывать, что подходы к доказательству в уголовном и гражданском процессах различаются, и это различие может влиять на применение норм права. А.Р. Шарипова отмечает, что «разница в стандартах доказанности обусловливает своеобразие институтов доказательственного права каждой из процессуальных отраслей» [9, с. 136].
Применение стандартов доказанности в контексте вынесения оправдательного приговора и решения суда по диффамационному иску
Конституционный Суд РФ в постановлении от 19 ноября 2024 г. № 53-П5, рассматривая конституционность норм гражданского законодательства, затронул вопросы, связанные с защитой прав граждан в контексте стандартов доказанности. Орган конституционного контроля резюмирует: «Если же оправдательный приговор, постановление о прекращении производства по уголовному делу по реабилитирующим основаниям либо постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения вынесены судом единственно на основе недоказанности факта совершения лицом, привлекаемым к уголовной или административной ответственности, вменяемых ему действий (как это было в уголовных делах с участием заявительницы), это не должно препятствовать повторному доказыванию либо опровержению данного факта в гражданском процессе».
Таким образом, суд в общеисковом производстве, опираясь на стандарты гражданского судопроизводства, дает независимую оценку доказательств, представленных сторонами, и вправе по совокупности обстоятельств дела и по своему внутреннему убеждению призна- вать оспариваемые обстоятельства соответствующими или не соответствующими действительности, несмотря на оправдание истца в уголовном процессе.
Истина, не достигнутая в уголовном судопроизводстве, восторжествовала в процессе гражданском?
Вывод о том, что недоказанность факта совершения лицом вменяемых ему действий, установленная вступившим в законную силу оправдательным приговором суда, не является препятствием для признания этих фактов действительными в гражданском судопроизводстве, вполне укладывается в упоминаемый в решениях судов по гражданским делам стандарт доказанности «баланс вероятностей»6.
Уголовно-процессуальная процедура, обеспечивая права обвиняемого, утверждает более строгие правила установления его вины. Вытекающее из презумпции невиновности правило толкования разумных сомнений в пользу обвиняемого не позволяет вынести обвинительный приговор при наличии таковых. И.С. Дикарев, анализируя проблему истинности оправдательного приговора, отмечает, что «оправдательный приговор постановляется и в тех случаях, когда суд не располагает положительным знанием о картине происшедшего криминального события и роли в нем подсудимого. Для оправдания достаточно установить лишь то, что обвинительный тезис (утверждение о совершении конкретным лицом запрещенного уголовным законом деяния) стороной обвинения не доказан, не подтверждается имеющейся совокупностью доказательств» [10, с. 23]. При этом итоговое решение суда, как при недоказанной виновности, так и при доказанной невиновности, одно – оправдание по реабилитирующему основанию.
Один из постулатов презумпции невиновности – равнозначность недоказанной виновности и доказанной невиновности – судом поставлен под сомнение, новое доказывание и опровержение сторонами тех же обстоятельств в рамках другого дела не вступает в противоречие с выводом об их недоказанности в ранее рассмотренном деле, который не содержит в основе ни утвердительного, ни отрицательного суждения о наличии этих обстоятельств.
Даже с учетом особенностей рассмотрения уголовных дел частного обвинения и специфики диффамационных исков выводы суда приводят к различиям стандартов доказанности при разрешении уголовных и гражданских споров. В ситуации недоказанной виновности обвиняемого торжествует презумпция невиновности, а истина (как соответствие обстоятельств уголовного дела действительности) остается неустановленной.
Из двух возможных вариантов доказанности (внутреннего убеждения судьи в достижении истины и убеждения судьи в недоказанности обвинения) разрешение второго варианта основано на правдоподобности утверждений обвиняемого, а не на доказанности обстоятельств уголовного дела «вне разумных сомнений».
Выводы
Конституционная норма о толковании неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого создает нормативную базу стандарта доказанности, применимого в уголовном судопроизводстве. Справедливость судебного разбирательства предполагает минимизацию возможных судебных ошибок, преодоление предвзятости и субъективизма в процессе доказывания.
Опора на стандарты доказанности как вариант формализации оценки доказательств по уголовному делу отвечает требованию транспарентности судебного разбирательства и способствует повышению уровня доверия к судебным решениям. В то же время механический перенос стандартов доказанности на российскую почву едва ли возможен в силу неоднозначности содержательного толкования и в определенной степени в силу неприемлемости частью научного сообщества теорий, лежащих в основе указанных стандартов. При этом дискуссионность понятий в науке никогда не была препятствием для правоприменения. Свидетельство тому – позитивные стандарты доказанности, сложившиеся в судебной практике.