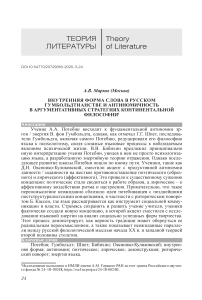Внутренняя форма слова в русском гумбольдтианстве и антиномичность в аргументативных стратегиях континентальной философии
Автор: А.В. Марков
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Учение А.А. Потебни восходит к фундаментальной антиномии эргон / энергия В. фон Гумбольдта, однако, как отмечал Г.Г. Шпет, последователи Гумбольдта, включая самого Потебню, редуцировали его философию языка к психологизму, сводя сложные языковые процессы к наблюдаемым явлениям психической жизни. В.В. Бибихин предложил принципиально иную интерпретацию учения Потебни, увидев в нем не просто психологизацию языка, а разработанную энергийную теорию отражения. Однако последующее развитие школы Потебни пошло по иному пути. Ученики, такие как Д.Н. Овсянико-Куликовский, сместили акцент с продуктивной антиномии данности / заданности на жесткое противопоставление поэтического (образного) и лирического (аффективного). Это привело к существенному сужению концепции: поэтическое стало сводиться к работе образов, а лирическое – к аффективному воздействию ритма и настроения. Примечательно, что такое переосмысление неожиданно сблизило идеи потебнианцев с позднейшими постструктуралистскими концепциями, в частности с риторическим поворотом Б. Кассен, где язык рассматривается как инструмент социальной коммуникации и власти. Стремясь сохранить и развить учение учителя, ученики фактически создали новую концепцию, в которой акцент сместился с исследования языковой энергии на анализ социально успешных форм творчества. Этот процесс демонстрирует, как верность традиции может обернуться ее радикальным переосмыслением, а также показывает неожиданные параллели между русской филологической мыслью начала XX в. и западной теорией второй половины столетия.
Потебня, Гумбольдт, Шпет, Бибихин, Овсянико-Куликовский, внутренняя форма, антиномия, поэтическое, лирическое, деконструкция, риторический поворот, энергия языка
Короткий адрес: https://sciup.org/149149372
IDR: 149149372 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-24
Текст научной статьи Внутренняя форма слова в русском гумбольдтианстве и антиномичность в аргументативных стратегиях континентальной философии
Potebnya; Humboldt; Shpet; Bibikhin; Ovsyaniko-Kulikovsky; inner form; antinomy; the poetic; the lyrical; deconstruction; rhetorical turn; energy of language.
Школа А.А. Потебни – школа различения фигур, тропов, способов означивания и других явлений, которые можно отнести с равным успехом к домену лингвистики или домену поэтики. Конечно, это связано прежде всего с тем, что в исходном для школы Потебни учении В. фон Гумбольдта антиномия эр-гон и энергии была главным способом описания и человеческой деятельности, и эффектов языка. Как заметил еще Г.Г. Шпет, последователи Гумбольдта, во главе с Хейманом Штейнталем, не удержались на высоте его мысли, желая сам язык «гнуть силою к земле и загонять в психологическую конуру» [Шпет 1927, 35], то есть сводить язык к наблюдаемым явлениям психической жизни. Здесь же Шпет замечает:
Если, поэтому, у Гумболь<д>та встречается употребление термина в смысле вещи или психо[т]ического процес
Потебнианство для Шпета поэтому было отчасти штейнталианством – далее Шпет упрекает потебнианцев, не называя их, в том, что «чрезмерное давление эмпирии и психологии» [Шпет 1927, 46] заставляет их выделять образы, а не конститутивные тропы и алгоритмы. Тогда как внутренняя форма есть «пластическая сила конкретного языкового тела» [Шпет 1927, 46], то есть внепсихологическое действие силы, ищущей воплотить себя в смысле. Для Потебни такое действие силы явно не было безальтернативным; по замечанию В.В. Бибихина, давшего наиболее тонкий анализ труда Потебни «Мысль и язык», Потебня в конце концов признает не только «внутреннюю форму», но и «содержание» слова [Бибихин 2008, 142]. Благодаря этому, Потебня может обеспечивать синтез образа и самой вещи, принимая образ как вещь, и тем самым в слове отражая целостное понятие, восстанавливающее целый мир:
Там, в серьезной игре в слово-вещь, ему уютно, как больше нигде. Там слово надежно сбережет ненарушенный мир, спасет человека, потому что прогонит раздвоенность, став тем же, что вещь. Метания кончились; мы в целом нераздвоенном мире; только теперь, спасшись от раздора, мы понимаем, что наделал с миром язык, как его расколол, как заставил теряться, не знать где суть – истина, – в вещах или в словах. Тот спор был бы вечный, мы из него не выбрались бы ввек. Теперь выбрались благодаря ребенку и первобытной вере: слова – это сами вещи, вещи продолжаются в словах, как солнце продолжается в своих лучах [Бибихин 2008, 138].
То, что для Шпета было психологизмом Потебни, для Бибихина оказывается системой принятия и производства, Потебня с самого начала помещает себя как бы внутрь самой энергии языка. Образ – это только способ применения энергии, и признание и определенное принятие образности не противоречит конструктивизму , только конструировать надо путем отражений, активного отражения понятий вещью, а не путем легитимации конструктов.
Круг замыкается: внутренняя форма поэтична, внутреннюю форму спасает поэтическое творчество. Чтобы символическое зерно, миф, свернутый как пружинка внутри слова, развернулся, нужна с самого начала и до конца творческая хватка [Бибихин 2008, 147].
Бибихин явно создает активную (энергийную) теорию отражения, чему посвящена и его отдельная книга [Бибихин 2010]. Таким образом, антиномия образа и конструкции оказывается мнимой, а по-настоящему продуктивна антиномия данности и заданности, на которой и строится поэтика творческих решений.
Как показал Бибихин, Потебня различает поэтическое творчество и отдельные факты поэзии. Поэтическое оказывается принципом образотворче-ства и за пределами поэзии. В книге «Мысль и язык» важнейшая сквозная мысль, которую иногда не замечают – это то, что психологическая ассоциативность является не индивидуальным, а социальным опытом. Гумбольдтовская энергия всегда уже с кем-то разделена. Данность образа является моментом заданности такого социального разделения опыта, и продуктивная антиномия данности и заданности и образует особую поэтику, в которой человек сам открывает неизвестные ему прежде свои или чужие душевные движения. Тогда даже самопознание есть социальный и овнешненный опыт:
В создании слова должно повториться то, что происходит с нами на высших степенях развития: не в уединении, а в обществе мы привыкаем смотреть за собою; поэтическое произведение открывает нам до того неизвестные стороны нашей собственной души, а не сами собою они нам уясняются: вообще внешнее наблюдение предшествует внутреннему [Потебня 1989, 95].
Заметим, что Гумбольдт, которого здесь цитирует Потебня, ничего не говорил о такой поэтике морально и социально значимого наблюдения. Для него социальное функционирование языка есть тестирование моего собственного понимания слова: только сказав другому что-то, ты это понял – и это как раз соответствует шпетовской критике потебнианства как пренебрегающего тестированием речевых ситуаций в пользу образа. Для него существует вопрос о социальной легитимности речи, а не о социальном задании.
Замечательно, что Шпет не обращается в своей книге к самой мысли Гумбольдта, но воссоздает ее от противного, желая подвести черту под потебниан-ской версией психологизма. Если Потебня цитирует Гумбольдта корректно, «и человек понимает себя, только испытавши на другом понятность своих слов» [Потебня 1989, 95], при этом придавая этому испытанию измерение социального задания, – то Шпет заменяет испытание удостоверением, давая пересказ без ссылки: «Но в действительности человек понимает и себя, лишь удостоверившись в том, что его понимают другие, и потому язык развивается только в обществе» [Шпет 1927, 16]. Шпет сводит антиномию данности и заданности к антиномии первичного образа (понимания) и первичной конструкции (удостоверения), разрешаемой поэтикой развития, постоянного прогресса языка и искусства, которое для Шпета скорее нормативно, чем экспериментально (авангардистов-экспериментаторов, как мы помним, он бранил).
Ученики Потебни произвели важное смещение в первичной антиномии своего учителя. Поэтическое стало противопоставляться не столько игровой начальной ситуации социализации, которую отметил Бибихин в наследии Потебни, сколько лирическому . Ученики пытались быть верны учителю – если в любом тексте есть образ, а значит, поэзия, лучше обособить лирику как некоторое конструирование опыта, как нечто, напрямую связанное с внутренними условиями поступка , а не с функционированием поступков и отражением их в текстах. Именно лирическое тогда создает эмоциональную социализацию, некоторый начальный ритм, начальную игру, а образ как таковой оказывается просто путем к социальному успеху. Это не первобытная игра Потебни и Бибихина, в которой слово счастливо совпадает с вещью, это азартная эмоциональная игра, в которой забываешь о себе и о других, нечто вроде самозабвенного пения, которое заставляет других признать тебя носителем смысла. Как это часто бывает в культуре, верность и оказывается изменой – пытаясь сохранить всю эстетику Потебни, последователи утрачивают самое свое в Потебне, собственную постановку вопроса.
Так, Овсянико-Куликовский постоянно противопоставляет поэтический образ (пластику) и словесный лиризм (музыкальный порыв и ритм). Лири- ку Овсянико-Куликовский описывает по Канту, различая прекрасный однообразный ритм и возвышенный разнообразный ритм. В конце концов, лирика может обходиться и без образов, одними представлениями душевных переживаний (медитативная лирика не имеет образов). Поэтому Овсянико-Куликовский настаивает на том, что «лирическая эмоция» появляется там, где хотя бы потенциально, в отдельных лирических жанрах, появляется возможность обойтись без образов: «Процесс восприятия лирики не есть процесс умственный» [Овсянико-Куликовский 1917, 17]. Там же Овсянико-Куликовский называет определяет лирическую эмоцию как аффект от ритма и настроения, когда «слитых в единое, неразложимое, компактное целое». Он говорит, что лирическое чувство, произошедшее от слов, ритмов, движений – «чувство очарования, упоения, восхищения, восторга» [Овсянико-Куликовский 1917, 17], то есть настроений, которые не связаны с целеполаганием, но которые и есть этот лирический играющий ритм индивидуальной экзальтации, предшествующий социально успешным и гарантирующим социальный успех образам.
Овсянико-Куликовский строго различает поэтическое начало, связанное с работой образов, и лирическое начало, имеющее в виду смену настроений. Он прямо говорит, что если поэтическое имеет в виду образность и в этом смысле может быть усилено образами, то лирическое усиливается декламацией или пением [Овсянико-Куликовский 1917, 20]. Вопреки вражде поэтов, от Блока до Мандельштама, к чтецам-декламаторам, он видит в них как раз лиризм, дополняющий поэтический опыт. Он допускает, что и пересказ лирической прозой может в некоторых случаях усиливать тот самый лиризм – что тоже не признал бы никто из поэтов-современников, строивших прозу поэта вовсе не как усиление лирической эмоциональности собственного творчества, но скорее как взятие этой лирической эмоциональности в круг уже понятных читателю образов – это было конструирование читателя, а не подкуп его образами. Таким образом, для Овсянико-Куликовского лирика становилась некоторым песенным началом, индивидуально применяемым, но аффективно прямолинейным: лирика всякого застает врасплох, и любые неожиданности и инновации в поэзии в широком смысле обязаны лирической экзальтации.
При этом для него не только образность, но и песенность как лиричность самозабвения должна быть в хорошей прозе. Поэтому Овсянико-Куликовский не включает в канон Достоевского: он отсутствует среди авторов новейшего эпоса [Овсянико-Куликовский 1917, 24], появляется как романтический прозаик в одном списке со Златовратским [Овсянико-Куликовский 1917, 38], и наконец, отмахивается: «Не блещет красотами и слог Достоевского» [Овсянико-Куликовский 1917, 137]. Действительно, Достоевского можно считать кем угодно, но не песенным автором. Итак, согласно Овсянико-Куликовскому лирическое должно быть в любом поэтическом (образном) произведении, если в нем есть рассмотрение внутренней жизни. У Достоевского есть рассмотрение внутренней жизни, но лиричности нет – значит, он плохой писатель, «романтический» или «сентиментальный» – что означает умение рассматривать внутреннюю жизнь, не соблюдая законов лирики, а только доверяя аффектам внутренней жизни.
Овсянико-Куликовский превращает слово «внутренняя форма» в общий принцип эстетической реконструкции текстов: «например, если эпос состоит из одних диалогов прямых или косвенных, то будет обманчивая эпическая внешняя форма, и драматическая внутренняя форма» [Овсянико-Куликовский 1917, 22]. Таким образом, возможна и лирическая внутренняя форма, и здесь уже почти шаг до тыняновского «лирического героя». Другое дело, что для Тынянова герой – это определенная конструкция, которая и позволяет вызывать лирические аффекты у читателя, будучи сама равнодействующей некоторых поэтических техник и приемов. Лирический герой, по Тынянову – фантомный герой, «постулированный образ» [Тынянов 1977, 438], тема фантомов дальше Тынянова и занимала. Тогда как Овсянико-Куликовский трактует героя не с точки зрения противопоставления правды и фантазма / фантома, но с точки зрения полной принадлежности действий героя одному из родов литературы, вне зависимости от того, какая образность обслуживает и обеспечивает героя. В данном случае Овсянико-Куликовский как раз настаивает на понимании фантома как инструмента тотальной эпизации, лиризации или драматизации судьбы человека или литературного героя как внутренней формы социальной жизни, чем он предвосхищает сходный ход в континентальной французской теории. Как показывает словарная статья PHANTASIA в «Европейском словаре философий» [Cassin 2004], традиция французской деконструкции сводит фантом / фантазм к репрезентации неизвестного субъекта, то есть видит в нем внутреннюю форму самой репрезентации, «вещь, как мы ее видим», понимая при этом, что она может быть не такой, как мы ее видим («у страха глаза велики»). То есть рациональность деконструкции сводит социальную коммуникацию к рационально разделяемому несогласию с некоторыми фантазмами, что отличается от позиции Овсянико-Куликовского только тем, что распространяется под влиянием психоанализа не только на литературный опыт, но и на опыт любых других искусств.
Овсянико-Куликовский в том же духе аффективности лирики сужает значение пластики до понятия: «поэтическое оттенение черт» [Овсянико-Куликовский 1917, 58]: то есть пластику уже может описать только через рельефность! Это напрямую следует из понимания поэтического как образного, где пластика, то есть индивидуальная фантазия, есть просто изобретение вспомогательных образов. Антиномия индивидуального и социального в понимании пластики также предвосхищает французскую теорию, в статье PLASMA / FICTIO [Cassin 2004] пластика также трактуется как вымысел, обеспечивающий социальное измерение риторики. Где у Потебни была, по сути, антиномия данности и заданности, как продуктивная для любого творчества, где можно ускорить работу с образами ради новых понятий, там остается только творческий успех, антиномия индивидуального и социального, продуктивная только для того творчества, которое социально успешно.
Черты пластики оказываются «схематические, символичные и типичные» [Овсянико-Куликовский 1917, 88] – триада прилагательных напоминают сразу три вида знака по Пирсу – но заметим, что это оттеняющие черты. То есть пластика у него – схема контраста, позволяющая выделить лицо, то есть схема индивидуализирующих аффектов, тогда как все типичное оказывается социально значимым. Опять мы видим отличие школы Потебни от Потебни, Шпета и формалистов с их культом приема и неожиданная близость постструктурализму, где схема, символ, образ и прочее трактуются прежде всего как принадлежность риторики, яркого и успешного ораторского выступления, как это показывает риторический поворот Б. Кассен и многочисленные статьи, такие как IMAGE, SYMBOL и другие в «Словаре» [Cassin 2004].
Наконец, самое поразительное, что Овсянико-Куликовский использует слово «Синоним» в смысле соименных лиц – для него есть синонимия Боб-чинский и Добчинский [Овсянико-Куликовский 1917, 79]. Здесь он порывает с обычной школьной традицией, что синоним это не про вещи, а про слова, но совпадает с античной риторикой и аристотелианской критикой риторики. Как показала статья SYNONYM в словаре Кассен [Cassin 2004], античные грамматики понимали именно так синоним, как двух лиц с одним именем, которые могут друг друга заменять. Это было своеобразное античное «имяславие». Так сужение антиномизма в школе Потебни способствовало предвосхищению деконструкции.
Потебнианцы могли идти еще далее, превращая антиномию поэтического и лирического в антиномию мышления и публичной речи. Здесь они не расходились с Овсянико-Куликовским, просто были откровеннее. Так, В. Харциев утверждал в эпоху письменности народное из живого творчества становится материалом для использования. Кто использует этот материал, тот и гений. Ю.С. Моркина выводит позицию Харциева [Моркина 2019а, 162] по сути из орудийной теории создания языка и цивилизации. Первоначальное мышление метонимично, оно проецирует в язык метонимическое отношение между телом и инструментом, инструмент как продолжение тела. Мифология поэтому прозаична и метонимична, она заменяет комплекс восприятия звуковым образом как инструментом. Речь заменяет образное представление, пластически как бы соразмерное самой вещи. Тогда как поэтичность , по сути, лирическое начало, трансформирует мысль радикально. Если мифология понимает солнце как колесо, то она требует, по законам метонимии, колесу ось и спицы, то есть функционал, понимание которого выстраивается метонимически. Тогда как в поэзии солнце как колесо будет просто колесом, общим нерасчлененным образом, действующим на воображение [Моркина 2019а, 163]. Это уже близко якобсоновскому пониманию метафоры и метонимии, но также и общему положению во французской теории, что метафора представляет собой основную фигуру речи оратора, которая автореферентна, которая показывает могущество слова, которое кажется ничем, колебанием звука – для этого и нужна некоторая нерасчлененность воображения в метафоре [Cassin 2004].
Конечно, такое разделение мифопоэтического (метонимического) и лирического (метафорического) обязано определенным философским амбициям потебнианской школы. Среди философских амбиций всегда первенствует амбиция точности. По Б.А. Лезину, еще одному харьковскому потебнианцу, языкознание по сравнению с математикой является более фундаментальной наукой. Это наука о способах сбережения психической энергии, в том числе, и при математическом теоретизировании. Таким образом, можно представить поэзию-прозу как сбережение энергии, которое достигается метонимией, экономной, тогда как поэзию-лирику – как разрядку психической энергии [Мор-кина 2019а, 165]. Моркина не вполне точна, что в этой традиции лирическое чувство здесь приравнивается к вдохновению [Моркина 2019b, 255] – скорее, это своеобразное учение о стимулах, которые можно воспроизводить, что соответствует тогдашней психологии (как действительно, по замечанию Мор-киной, принадлежащей эмпириокритицизму, так и позитивизму вообще) с ее понятием о воспроизводимых действиях, например, трудовых, которые и обеспечивают правильное накопление и разрядку энергии.
Ю.С. Моркина пытается в конце концов сама стать неопотебнианцем, восстанавливая антиномию данности и заданности, но сводя ее к научной данности и к научному заданию, сужая до эпистемологии. Моркина настаивает на том, что поэзия – это форма мемуара, воспоминания, научного отчета, говоря, что поэта, как и ученого-теоретика, ведет «[э]кзистенциальное чувство», тре- буя справиться «со сложной задачей» [Моркина 2020, 66]. Моркина поясняет, опираясь как раз на потебнианскую традицию, что стихотворение после прочтения «начинает подвергаться дальнейшей рефлексии» [Моркина 2020, 71], и что этот процесс идет всю жизнь. Если человек и забывает на уровне сознания прочитанное стихотворение, то сама принципиальная открытость и незавершенность формы продолжает действовать в читателе до самой смерти. Понятно, что это утверждение невозможно верифицировать достаточным числом экспериментов, но оно вполне соединяет постструктуралистский тезис об открытом произведении (Эко) и потебнианское представление о том, что внутренние конструкции смысла в поэзии энергетические, принадлежат «энергии» в смысле Гумбольдта и потому не могут быть до конца формализованы, а значит, прекратить свое действие. Это противоречит опыту всей модернистской поэзии, как раз настаивающей на том, что читатель может исчезнуть (от Блока до Мандельштама), но соответствует потебнианству, если его понимать как учение о социальном задании, которое мы выполняем всю жизнь. Да и французской теории тоже, если она настаивает на том, что единожды став существом политическим, риторическим, культурным, человек уже не сможет перестать им быть.
Центральная антиномия эргон / энергия, унаследованная от Гумбольдта, в интерпретации Потебни трансформировалась в антиномию данности / заданности языковой формы, где образ одновременно и дан как психический факт, и задан как социальный конструкт. Последователи Потебни, сохраняя формальную приверженность этой антиномии, фактически выхолостили ее диалектическую природу, сведя к упрощенной антиномии поэтического и лирического. Однако именно эта редукция неожиданно обнажила другую, более фундаментальную антиномию – между индивидуальным творческим актом и его социальной рецепцией, предвосхитившую социальную ангажированность французской теории. Таким образом, история школы Потебни демонстрирует, как продуктивная антиномия, будучи механически воспроизводимой, может порождать неожиданные теоретические конфигурации.