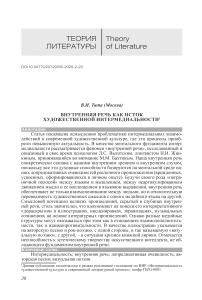Внутренняя речь как исток художественной интермедиальности
Автор: Тюпа В.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению проблематики интермедиальных взаимо действий в современной художественной культуре, где эти процессы приобрели повышенную актуальность. В качестве ментального фундамента интермедиальности рассматривается феномен «внутренней речи», исследованный и описанный в свое время психологом Л.С. Выготским, лингвистом Н.И. Жинкиным, принимавшийся во внимание М.М. Бахтиным. Наша внутренняя речь синкретически связана с нашими внутренним зрением и внутренним слухом, поскольку все эти духовные способности базируются на ментальной среде наших допредикативных очевидностей различного происхождения (врожденных, усвоенных, сформировавшихся в личном опыте). Будучи своего рода «пограничной полосой» между языком и мышлением, между неартикулированным движением мысли и ее воплощением в языковом выражении, внутренняя речь обеспечивает не только взаимопонимание между людьми, но и относительную переводимость художественных смыслов с одного медийного языка на другой. Смысловой потенциал великих произведений, скрытый в глубинах внутренней речи, столь значителен, что вдохновляет на поиски его интерпретативного «дораскрытия» в иллюстрациях, инсценировках, экранизациях, музыкальных сочинениях на основе литературных произведений. Однако разные медийные структуры могут оказываться при этом как в отношениях взаимодополнительности, так и взаимопротивительности. В качестве иллюстрации указывается на авторскую песню и рок-поэзию, с одной стороны, и так называемую «визуальную поэзию», с другой, - в ситуации кризиса книжной лирики. Отмечается неспособность к эстетическому творчеству искусственного интеллекта, не обладающего фундаментом внутренней речи.
Интермедиальность, внутренняя речь, допредикативная очевидность, авторская песня, визуальная поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/149148612
IDR: 149148612 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-20
Текст научной статьи Внутренняя речь как исток художественной интермедиальности
Статья посвящена осмыслению проблематики интермедиальных взаимодействий в современной художественной культуре, где эти процессы приобрели повышенную актуальность. В качестве ментального фундамента интер-медиальности рассматривается феномен «внутренней речи», исследованный и описанный в свое время психологом Л.С. Выготским, лингвистом Н.И. Жин-киным, принимавшийся во внимание М.М. Бахтиным. Наша внутренняя речь синкретически связана с нашими внутренним зрением и внутренним слухом, поскольку все эти духовные способности базируются на ментальной среде наших допредикативных очевидностей различного происхождения (врожденных, усвоенных, сформировавшихся в личном опыте). Будучи своего рода «пограничной полосой» между языком и мышлением, между неартикулированным движением мысли и ее воплощением в языковом выражении, внутренняя речь обеспечивает не только взаимопонимание между людьми, но и относительную переводимость художественных смыслов с одного медийного языка на другой. Смысловой потенциал великих произведений, скрытый в глубинах внутренней речи, столь значителен, что вдохновляет на поиски его интерпретативного «дораскрытия» в иллюстрациях, инсценировках, экранизациях, музыкальных сочинениях на основе литературных произведений. Однако разные медийные структуры могут оказываться при этом как в отношениях взаимодополнитель-ности, так и взаимопротивительности. В качестве иллюстрации указывается на авторскую песню и рок-поэзию, с одной стороны, и так называемую «визуальную поэзию», с другой, – в ситуации кризиса книжной лирики. Отмечается неспособность к эстетическому творчеству искусственного интеллекта, не обладающего фундаментом внутренней речи.
ючевые слова
Интермедиальность; внутренняя речь; допредикативная очевидность; ав торская песня; ви зуальная поэзия.
V.I. Tiupa (Moscow)
INNER SPEECH AS A SOURCE OF ARTISTIC INTERMEDIALITY1
bstract
A
The article is devoted to understanding the issues of intermediate interactions in modern art culture, where these processes have acquired increased relevance. The phenomenon of “inner speech”, investigated and described at the time by psychologist L.S. Vygotsky, linguist N.I. Zhinkin, and taken into account by M.M. Bakhtin, is considered as the mental foundation of intermediality. Our inner speech is syncretically connected with our inner vision and inner hearing, since all these spiritual abilities are based on the mental environment of our pre-predicative evidence of various origins (innate, learned, formed in personal experience). Being a kind of “boundary line” between language and thinking, between the unarticulated movement of thought and its embodiment in linguistic expression, inner speech ensures not only mutual understanding between people, but also the relative translatability of artistic meanings from one media language to another. The semantic potential of great works, hidden in the depths of inner speech, is so significant that it inspires the search for its interpretative “further disclosure” in illustrations, dramatizations, film adaptations, and musical compositions based on literary works. However, different media structures can be found both in a relationship of complementarity and mutual resistance. The illustration points to the author’s song and rock poetry, on the one hand, and the so-called “visual poetry”, on the other, in a situation of crisis of book lyrics. The inability to aesthetic creativity of artificial intelligence, which does not have the foundation of internal speech, is noted.
ey words
Intermediality; inner speech; pre-predicative evidence; author’s song; visual poetry.
Художественная культура народа и целого человечества, та эстетическая сфера, к которой всякий человек в той или иной степени приобщен, по природе своей интермедиальна. Взаимовлияние и взаимозависимость между визуальными, аудиальными и вербальными формами художественной деятельности проистекают из общего источника – из нашей «внутренней речи». Феномен, получивший такое наименование, хотя собственно речью он, строго говоря, не является, был раскрыт и осмыслен психологом Л.С. Выготским и дополнительно глубоко изучен лингвистом Н.И. Жинкиным, который в своей итоговой статье «О кодовых переходах во внутренней речи» (1964) описывает механизм перехода «самого неясного, самого неуловимого звена – человеческой мысли, внутренней речи» [Жинкин 1998, 150] через кодирующую систему языка к внешней речи. В отличие от этой последней – дискурсивной речи, выступающей материально-знаковым средством общения, внутренняя речь недискур-сивна, синтаксически не расчленена и не упорядочена. Она совершенно не то же самое, что «молчаливая речь», которая хоть и не произносится вслух, но строится в соответствии с правилами языка аналогично речи звучащей.
Впрочем, внутренняя речь может проявляться и внешне (особенно у детей грудного возраста), но в сигналах, еще не превратившихся в знаки языка. Способность к начальной, доязыковой речевой деятельности является врожденным человеческим свойством (подобно зрению, слуху, осязанию) . Тогда как членораздельностью языковой речи ребенку приходится овладевать, прилаживая свою внутреннюю речь к постепенно осваиваемому им языку взрослых. Как доказывал Н.И. Жинкин, «применение натурального языка возможно только через фазу внутренней речи» [Жинкин 1998, 159].
Вклад Л.С. Выготского в изучение психологического феномена внутренней речи как «мысленного черновика» речи внешней [Выготский 1982, 295– 360] невозможно переоценить. Однако недостаточная разработанность в 30-е годы металингвистической теории коммуникации (в частности, бахтинской теории высказывания), а также тяготение ученого к марксизму и, как следствие, неприятие персонализма (в лице Вильяма Штерна) приводят Выготского к существенному противоречию. Называя внутреннюю речь всего лишь «особой функцией» речи языковой, он в то же время убедительно доказывает, что «перед нами действительно речь, которая целиком и полностью отличается от внешней речи» [Выготский 1982, 352–352].
Отличие речи внутренней от внешнеречевой дискурсии состоит в том, что первая являет собой акт интенциональный, вторая же – акт коммуникативный, первая осуществляется «для себя», вторая – «для другого», первая порождается усилием интериоризации внешнего, вторая – усилием экстериоризации внутреннего. Однако в практике текстопорождения эти процессы взаимосвязаны. По рассуждению Б.М. Гаспарова, «говорящий силится придать своей мысли обозримые очертания, в которых она могла бы быть зафиксирована и передана другим», что «служит своего рода промежуточной станцией между неартику-лированным, бесконечно летучим движением мысли и ее объективированным воплощением в языковом выражении» [Гаспаров 1996, 287].
Стремление разобраться в исключительной сложности этих соотношений, в проблематичности переходов между знаковой тканью текста и мышлением, то есть между физической и духовной сторонами индивидуального существования и привело к открытию энигматичного явления внутренней речи. Вскрытые великим русским психологом недискурсивные механизмы «речевого мышления» (чистая предикативность синтаксиса, агглютинативность семантики, оперирование не значениями, а смыслами, а также факультативность вокализации) были осмыслены как синкретический феномен неслиянности и нераздельности языка и сознания.
Особого внимания заслуживает «факультативность вокализации», то есть внешнего звучания внутренней речи. Казалось бы, откуда здесь вообще взяться вокализации? Однако всякая человеческая мысль не сводится к «отражению» действительности, она неизбежно пронизана «эмоционально-волевым тоном» (Бахтин), она неустранимо интонирована. Внутренняя речь и представляет собой богатейшую смысловую систему интонаций, которая – вольно или невольно – проступает в нашем говорении, выполняя крайне существенную роль в общении людей.
Ментальная реальность внутренней речи в качестве границы одновременно как размежевывает язык и мышление, так и сращивает их. Эта пограничная полоса представляет собой сферу «допредикативных очевидностей», как эти кванты ментального опыта именуются феноменологической философией. До начала коммуникативного акта во внутреннем, извне не лимитированном пространстве сознания субъект коммуникативного события, как и его адресат, имеют дело со своими субъективными очевидностями («очевидность есть схватывание самого сущего <…> при полной достоверности его бытия, исключающей, таким образом, всякое сомнение» [Гуссерль 2006, 69–70]) различного происхождения (врожденными, усвоенными, сформировавшимися в личном опыте). Однако «истинное место» человеческого бытия Мартин Бубер убедительно обнаруживал «по ту сторону субъективного, по эту сторону объективного, на узкой кромке, где встречаются “Я” и “Ты”» [Бубер 1995, 232]. Коммуниканты при этом, рассуждал Бахтин, «не остаются каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, мире общения» [Бахтин 1997, 209], приобщаясь к интерсубъективной реальности культуры.
Гюстав Гийом, пришедший к обнаружению того, что можно именовать феноменом Выготского-Жинкина, исследуя язык «в виртуальном состоянии», утверждал, что речевой акт представляет собой ментальный «сигнал, с которым мысль в момент своего выражения обращается к языку», дабы освободить себя «от необходимости придумывать средства выражения в тот момент, когда это требуется» [Гийом 1992, 81]. Этот внутренний сигнал не может быть ничем иным, как допредикативной очевидностью одного сознания, которая нуждается в предикации, чтобы быть явленной собеседнику, для которого она не очевидна. Понимание происходит как «перевод с натурального языка на внутренний» [Жинкин 1998, 161]. Согласно Н.И. Жинкину, «самое существенное состоит в том, что язык, давая возможность выразить бесконечно много мыслимых содержаний, не может выполнить эту роль без интерпретаций» [Жин-кин 1998, 149], адресованных другому сознанию.
Первоначальная интерпретированность ментального акта определяется медийным орудием его манифестирования: «Любое материальное осуществление замысла вносит необходимые коррективы, дополнительную конфигурацию, ту особую эстетическую концептуальность, которой нет в образе без носителя, без слова в литературе, без краски в живописи и т.д.» [Serra 1990, 67]. Этим фактором и порождается медийное разнообразие художественной культуры, поскольку каждое техническое средство обладает собственными как специальными возможностями, так и ограничениями.
Для исследований интермедиальности особую значимость приобретает понимание того, что ментальная среда допредикативных очевидностей оказывается общей как для внутренней речи, так и для внутреннего зрения и внутреннего слуха. Н.И. Жинкин даже уподоблял единицы внутренней речи не словам (как это делал Выготский), а неким ментальным «картинкам». Современный научный язык предлагает для подобных реалий термин «фрейм».
Все акты художественной креативности коренятся в единой неструктурированной, ризоматической среде внутренней речи творческого субъекта, единицами которой служат ментальные фреймы допредикативных очевидностей. Поэтому, соседствуя в культурной практике, литература и музыка, музыка и живопись, живопись, графика, скульптура и литература – при всей значительности своих медийных различий – не встречаются, как чужие, но взаимодействуют как ветви общего корня. Так, например, Тобиас Шётлер в специальном исследовании доказывает, что восприятие сюжетной живописи требует того самого же когнитивного навыка, который необходим для восприятия речевого нарратива [Schöttler 2016].
В то же время неустранимость медийной специфики художественных практики обусловливает их некоторую смысловую ограниченность. «Различные интерпретации, – рассуждал Томас Стернз Элиот, – это как бы многократные попытки сформулировать одно и то же; разночтения же возникают из-за того, что в стихотворении заключен смысл более широкий, нежели то может передать обыкновенная речь» [Элиот 1997, 198]. Смысловая полнота культурной ценности художественного события вполне доступна только внутренней речи.
На этой ментальной базе «в процессе общения и применения натурального языка вырабатываются еще два особых языка – языка художественного мышления <…> при помощи которого можно управлять появлением у воспринимающего партнера определенных представлений и чувствований. Это достигается путем введения в язык новых правил, регулирующих или надсинтаксическую структуру временных членений (как в поэтическом языке), или форму языковой изобразительности» [Жинкин 1998, 162]. В данном рассуждении Н.И. Жинкина фиксируется принципиальный момент зарождения художественной интермедиальности.
Межнациональный перевод вербальных текстов вызван необходимостью межкультурного общения. Тогда как с иллюстрациями, инсценировками, экранизациями, музыкальными сочинениями на основе литературных произведений положение иное. Они принадлежат общей для них национальной культуре, однако смысловой потенциал великих произведений, скрытый в глубинах внутренней речи, столь значителен, что вдохновляет на поиски его интерпретативного «дораскрытия» иными медийными средствами.
В силу семиотического своеобразия знаковости используемых для формотворчества материалов медийные средства художественной деятельности в различных областях искусства глубоко различны. По мысли Н.Т. Рымаря, они «обладают своей изменяющейся на протяжении веков культуры социально-культурной семантикой <…> Фактура материала, а вместе с ней и многочисленные приемы работы с ним, сформировавшиеся на протяжении столетий истории искусства, оказываются границами-пределами авторской субъективности» [Рымарь 2016, 99]. Вследствие этого медийные характеристики выступают ремесленной стороной эстетического творчества [cм.: Тюпа 2024] и радикально зависимы от традиции, поскольку подвержены неизбежной повторяемости. А в кризисные эпохи разрыва с традицией подвержены разрушительным интенциям самоотрицания художественности («Дыр-бул-щыл…» Алексея Крученых или «Поэма конца» Василиска Гнедова).
Всякая коммуникативная ситуация, в том числе и художественная, представляет собой социальное пространство общения. Поэтому дискурсивное овнешнение речевого акта есть всегда оглядка, сознательная или чаще невольная, на конвенциональную систему условностей. Ибо всякое высказывание осуществляет ту или иную коммуникативную стратегию в том или ином социокультурном контексте и принадлежит вследствие этого к тому или иному роду дискурса, ожидаемому реципиентом. Подобно чистому листу перед пишущим, дискурс, говоря словами Поля Рикёра, «присутствует во мне как пустота, предназначенная к заполнению словами» [Рикёр 1995, 382].
О «дискурсах» в невербальных искусствах обычно не говорят, однако и здесь произведение оказывается интерсубъективным пространством взаимодействия сознаний, заполняемым «факторами художественного впечатления» [Бахтин 1975, 18]: цветами, линиями, объемами, тональными модуляциями звучаний, а также комплексными сочетаниями таких факторов – мизансценами, кинокадрами. Но главное, что их сближает, состоит в следующем: всякое «художественное впечатление» представляет собой акт внутренней речи. Достаточно полно и точно сформулировать свое субъективно очевидное впечатление средствами дискурсивной речи, как правило, бывает затруднительно.
В качестве общей «корневой системы» всех видов искусства внутренняя речь не просто питает их интермедиальные связи и взаимовлияния, но делает эти процессы закономерными и неизбежными.
Синкретичные в медийном отношении явления художественной культуры известны очень давно. Таковы народные песни, лубочные книги, раёк. Однако в современную эпоху цифровых ресурсов коммуникации интенсивность и широта интермедиальных перекодировок и синкризий значительно возрастает. В кругу этих обстоятельств можно усмотреть как позитивные, так и негативные тенденции. Это связано с тем, что разные медийные структуры могут оказываться как в отношениях взаимодополнительности, так и взаимопротивитель-ности.
Характерный культурно-исторический феномен – кризис лирического творчества в новейшее время, проницательно диагностированный молодым Бахтиным: «…лирика жива только доверием к возможной хоровой поддержке <…> где ослабевает доверие к хору, там начинается разложение лирики» [Бахтин 2003, 232]. В частности, «зараженный нормальным классицизмом» Иосиф Бродский констатировал кризисный разброд векторов поэтического письма: «Один певец подготовляет рапорт. / Другой рождает <…> ропот. / А третий знает, что он сам – лишь рупор». В своей нобелевской лекции Бродский от имени неотрадиционалистов ХХ века (Ахматовой, Мандельштама и Цветаевой, Рильке, Фроста и Одена) говорил: «Мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры», противясь тенденциям «дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания» [Бродский 1992, 14].
Альтернативный творческому неотрадиционализму [см.: Скляров 2012, Скляров 2014] путь авангардистских провокаций приводит в XXI в. к формированию так называемых «инновативных» текстов, «извлекающих нас из узких рамок антропоцентрического мышления» [Василенко, Мирошниченко 2018, 131] и выступающих «повесткой и поводом для радикального переосмысления антропоцентризма» в направлении «постгуманизма» [Василенко, Мирошниченко 2018, 135]. Последний, несомненно, чреват нешуточной «смертью искусства», провозглашавшейся еще Василиском Гнедовым.
В переживаемой нами исторической ситуации совершенно не случайно произошла активизация интермедиальной лирики, проложившая два основных русла.
Одно из них – это визуальная поэзия, изобретение различного рода «изо-пов», как это было названо Андреем Вознесенским. Для корректного осмысления данного «тренда» необходимо четкое разграничение «наглядности и зримости» рецептивных впечатлений [Лавлинский, Малкина 2020]. Традиция «фигурных стихов» весьма давняя, восходит к барокко – тоже кризисному, но при этом весьма плодотворному периоду художественной культуры. Однако графическая изобретательность в расположении букв текста остается весьма поверхностным фактором художественного впечатления. Визуально-ментальные возможности слова – вербального знака, укорененного во внутренней речи и непосредственно затрагивающего внутреннее зрение, – неизмеримо глубже, чем визуально-полиграфические возможности буквы. Между тем эта внешняя, весьма примитивная визуальность «инновативной» поэзии оттесняет и заслоняет визуальность внутреннюю, которая призвана открыться читателю в его собственном воображении.
Намного продуктивнее оказалось другое русло – возвращение поэзии к интермедиальному единению с музыкой. Сопряжение данных видов творчества в истории культуры не прерывалось никогда, но расцвет «авторской песни» в 60-е гг. прошлого века явился качественно новой ступенью их интеграции. Советская массовая песня, формируемая усилиями целого коллектива (сочинитель слов, сочинитель музыки, литературный редактор, музыкальный редактор, цензор, оркестр «под управлением» дирижера и, наконец, соединивший слова с музыкой исполнитель – лицо песни для слушателей), явственно демонстрировала тогда еще не провозглашенную Роланом Бартом «смерть автора». Тогда как песни Окуджавы и умножившихся вслед за ним поэтов с гитарой оказались своего рода воскрешением авторской фигуры в песенной лирике. А также и воссозданием неофициальной песенной культуры – на месте фольклорной песни, прирученной властными инстанциями: отцензурованной, отредактированной и растиражированной советским радио. Практика же не хорового, но соборного распевания «гитарной» лирики сыграла в свое время далеко не последнюю роль в социокультурной самоидентификации «шестидесятников».
Позднее на смену эпохальной волне авторской песни пришла, как известно, песенная рок-поэзия и наглядно подтвердила бахтинскую мысль о том, что бытование лирики питается хоровой поддержкой. Тогда как книжная лирика в наше время пребывает в явном упадке. Немаловажная роль в этой ситуации принадлежит тому обстоятельству, что песенная лирика, пожалуй, ближе всех форм искусства соприкасается с внутренней речью.
Обсуждаемая категория проливает свет также и на вопрос о творческих возможностях искусственного интеллекта. Если не смешивать, как это нередко случается, коллажную изобретательность конструктивного имитирования с подлинным сотворением виртуальных миров, искусственный интеллект, не обладая внутренней речью, при всей мощи своих формальных операций в принципе не способен к эстетическому творчеству.